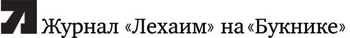Бедные, но счастливые
«Мы были бедными, но такими же были все остальные, поэтому мы не понимали, что мы бедные».
Мы слышим эту фразу и предполагаем, что у говорящего было счастливое детство. Мы понимаем, что он — или она — был счастлив, поскольку был частью группы.
Эрик Хоффер писал, что в странах, где есть свобода, все требуют равенства, и в Америке социальный диалог — в большой степени попытка принудительно создать общую социальную и этическую среду.
Социологические опросы и ток-шоу — и то и другое институализированная болтовня — занимают один край спектра, а на противоположном — радикальное движение «ополченцев» и взрывы.
Потому что неопределенность для нас непереносима. Первый вопрос, который американец задает незнакомому человеку, если ему предстоит провести с ним больше пяти минут: «Чем занимаетесь?»
Это означает: «Как мне понять вас, как классифицировать, определить вам цену? Принадлежите ли вы к моей группе?»
А вот более возмутительный вопрос: американского еврея спрашивают: «Вы в первую очередь еврей или американец?»
Какая наглость. По какому праву это спрашивают?
Для спрашиваемого только задуматься над ответом — значит признать право или прерогативу культуры большинства не просто выяснять твою позицию, а утвердить свое право на такое дознание.
Принять этот вопрос — значит признать своим долгом найти объяснение антисемитизму. Это как если бы жертва изнасилования сказала: «Хорошо, дайте попробую вспомнить, насколько короткая юбка была на мне в тот день».
Согласиться с высокомерным поведением культуры большинства — значит солидаризироваться с расовой ненавистью.
Фразы: «Я еврей, но не иудаист», «Я еврей в культурном отношении, но не в религиозном», «Мои родители евреи, но я не еврей», «Я еврей, но поведение Израиля не одобряю» и т. д. — эти фразы как будто бы декларирующие автономность, на самом деле — ритуал подчинения доминирующей культуре.
Подобные позиции нельзя назвать неправомерными, но огласивший такую — в буквальном смысле отщепенец, он поместил себя вне группы. А кому какое дело? Откуда у доминирующей культуры исключительное право запрашивать информацию о характере и степени твоих привязанностей? И с какой стати удовлетворенному индивидууму снисходить до ответа?
Фразы: «Я еврей, но…» и т. д. означают: «Не презирайте меня. Я тоже вижу кое-что неприятное в моей нации, культуре, религии. Я совсем такой, как вы».
Но нет ничего противного в нашем народе и его обычаях — есть только усвоенное отвращение к себе.
Чем вызван антисемитизм? Чем вызвана расовая ненависть? Они вызваны отвращением к себе. Психически неустойчивый человек или культура, угнетатель, не в силах вынести сознания своей никчемности, проецирует собственные неприемлемые черты на группу, легко опознаваемую как Другие. Единственное, что еще требуется от этой группы, — чтобы она воспринималась как бессильная.
Можно ли изменить представления расиста? Нет. Существенно то, что не представления — причина расовой ненависти. Расовую ненависть обостряет разрыв между представлениями расиста и реальностью ситуации: по мере того как более жестокими становятся действия расиста, яснее становится сознание собственной никчемности (только теперь вполне ему открывшееся), и от разросшегося ощущения «плохого» он делается еще более жестоким и приписывает свое устервление новым «доказательствам» пороков жертвы. Например: евреи плохие. Давайте их притеснять. Они не сопротивляются. Евреи слабые и плохие.
Поддерживая расиста, мира не обретешь. Мысль: «Да пусть его» влечет за собой непрекращающийся внутренний диалог: «Надо мне было высказаться?» — «Чего бы я этим достиг?» — «Это ничего бы не изменило?» — «Да обида-то мелкая и, возможно, ненамеренная». По-моему, на мир это мало похоже.
Единственный мир — и, думаю, мы, евреи, можем увидеть прекрасные примеры в других меньшинствах — единственный мир, если ты еврей, это быть членом своего племени и возмущаться уничижением его (со стороны других и твоей собственной) так же, как возмутился бы уничижением твоей семьи.
Это не значит, что, возмущаясь, отвечать надо гневом, агрессией, или намерением «добиться перемен», или даже «повлиять».
На антисемитскую обиду следует отвечать не ради расиста, а ради обижаемого еврея — декларируя свою принадлежность к группе и радуясь ей.
Перевод с английского Виктора Голышева
Семейный отдых
Моя родня всегда испытывала страх перед поездками. Я думаю, это восходит к вавилонскому изгнанию. Как бы то ни было, в мои детские годы малейшее перемещение сопровождалось тревогами, бестолковщиной и разнообразными проявлениями нервозности. Отец с матерью ссорились, мы неизменно попадали не туда, пропускали время еды и сна, путали место назначения.
Родительские страхи принимали многие подручные формы: маскировались под боязнь полиомиелита, под боязнь подхватить заразу от питьевых фонтанчиков, утонуть, купаясь на полный желудок… все это были просто-напросто удобные личины для тяжелейшей ксенофобии, которую я в детстве видел вокруг себя повсюду — и дома, и в семьях моих приятелей.
Оглядываясь в прошлое, я понимаю окружавший меня страх перед чужеродным, и, говоря о нем как о культурном феномене, я шучу только наполовину. Моих родителей и родителей моих друзей лишь одно поколение отделяло от черты оседлости; их родителям даже самая короткая поездка сулила невыдуманные трудности и напасти. Как добыть еду, разрешенную религиозными правилами? Как приноровиться к местным обычаям? Как уберечься от гонений, а то и от убийства?
Вот какую милую ношу унаследовали от родителей мои мать с отцом и передали мне; и, хотя от казацких нагаек меня отделяют ныне целых семьдесят лет, я до сих пор не в ладах с поездками на отдых.
В медовый месяц мы с женой отправились в Париж, и я провалялся там двое суток на кровати, свернувшись калачиком. Вы, конечно, скажете — и будете правы, — что, вероятно, это связано с фактом женитьбы, — но разве она, в свой черед, не путешествие своего рода?
В любом случае подобными метафорами не прикрыть того, что за восемь лет брака, имея за плечами поучительный опыт медового месяца, мы ни разу толком не съездили отдыхать.
Однако в этом году нам обоим пришло на ум, что нам не суждено жить вечно, что наша дочь не вечно будет оставаться прелестной, любящей трехлетней девочкой и что на смертном одре нам вряд ли захочется сказать про нынешний 1986 год: «Как хорошо, что он был удачным для моей карьеры!»
И вот моя жена, действуя от имени «семейной группы», заказала нам отдых. Образцовый муж, я, конечно, согласился и поздравил ее с этим решением, рассчитывая, что, когда придет время, сумею отговориться какой-нибудь срочной работой или, самое лучшее, прикинуться больным. В крайнем случае — действительно заболеть.
Эту последнюю тактику я с успехом применял раньше: «Вы, девочки, поезжайте, обо мне не беспокойтесь, отдохните как следует». Они отправлялись на отдых, а я получал в свое распоряжение всю кровать и мог курить сигары в гостиной.
Но на сей раз этот номер не прошел. Когда день отъезда был совсем уже на носу, я сказал жене, что сердце мое разрывается, но поехать с ними я никак не могу; она на это ответила, что просмотрела мой ежедневник и увидела, что в эту неделю у меня ничего не намечается, кроме посещения парихмахерской, которое она телефонным звонком благополучно отменила; и вдобавок она уже сказала ребенку, что папа отправится с ними на неделю и на это время «отложит работу».
Я открыл сковывающие боевые действия, напирая на нравственную сомнительность самовольной отмены моей стрижки, а попутно — на мою общеизвестную неспособность получать удовольствие от жизни, когда волосы у меня слишком отросли. На что жена коротко ответила: «Сочувствую», и мы отбыли резвиться и плескаться в карибском прибое.
По пути в аэропорт таксист поинтересовался, почему мы летим отдыхать на остров, который в эту самую минуту опустошает ураган. Я подумал: «Ага! Кавалерия скачет на подмогу». Но жена сказала ему: «Прилетим, посмотрим, и, если ураган не прошел стороной, просто вернемся домой, только и всего». Мы отправились на посадку.
Я сообщил жене, что за время полета мне надо будет кое-что изучить, и она ответила: «На здоровье». Изучить — значило прочесть гранки детективного романа, по которому кто-то захотел поставить фильм, и, воспротивься она, чтение доставило бы мне больше удовольствия, но она не возражала. Так что я сидел и продирался сквозь книгу. Дочка смотрела «Роман с камнем», а жена все три с половиной часа раскрашивала картинки в детской раскраске.
На острове мы узнали, что ураган прошел-таки стороной, я помрачнел, и мы направились в отель. Когда мы прибыли туда, я напрягся, предвидя интерлюдию, несомненно, знакомую всякому отдыхающему семиту: я на месте, я плачу хорошие деньги, и все не так. Поменяйте все немедленно, сделайте по-другому, не то я умру.
Коридорный принес наши вещи в номер, я открыл дверь, ведущую в патио, за которым сразу — песчаный пляж и Карибское море, и вдруг в воду оглушительно плюхнулся продолговатый футбольный мяч.
Блеск, подумал я: я здесь плачу хорошие деньги за тишину и покой, а какое-то чудо американского спорта, неспособное расстаться со своим инвентарем, портит мне весь отдых.
Но тут мяч у меня на глазах взмахнул крыльями и оказался пеликаном, только что нырнувшим за рыбой.
Ладно, решил я, попробую отдохнуть. И попробовал. Оделся по-пляжному и сел на берегу. Стал думать про Сомерсета Моэма и его морские рассказы. Стал думать про Джозефа Конрада. Подобрал морскую раковину, отметил, что ее вид явственно ассоциируется с Викторианской эпохой, и задумался о многообразии природных явлений.
Солнце село, мы с женой уложили ребенка спать и отправились ужинать. Мы сидели в красивом ресторане на утесе над берегом. Снизу доносились какие-то хлопки, точно от дальнего фейерверка. Я посмотрел и понял, что источник звука — галька, которую тянет в море обратный прибойный поток. Я сказал:
— Море уволакивает гальку со звуком, похожим на хлопки дальнего фейерверка.
Жена молчала. Я продолжил:
— По-моему, литературу преподают совершенно неправильно. Смотри: вот у нас изящное сравнение — но суть-то дела не в сравнении… Суть дела не в умении писателя что-то чему-то уподобить — суть дела в гальке!
— Когда ты наконец начнешь отдыхать? — спросила жена.
Что ж, я выпил еще одну, потом еще одну, потом мы вернулись в номер и легли спать, и первые двое суток я спал по восемнадцати часов, а на третьи уже не думал про Джозефа Конрада.
Дочка просила меня ходить с ней «делать муку», и я не отвечал ей: «Погоди минутку», а шел и делал муку. Это значило сыпать песок на пальмовый лист — занятие, к моему удивлению, не менее приятное (и, безусловно, более продуктивное), чем деловой обед в «Русской чайной».
В общем, мы отлично провели время. Купались, катались на водных лыжах, завтракали в патио. Дочка всю неделю ходила по пляжу голышом — только бусы на шее, — и волосы у нее выцвели, одни пряди больше, другие меньше.
На соседнем острове отдыхали наши хорошие друзья, они приехали к нам на день, мы все здорово поддали и купались при лунном свете в чем мать родила; мы с дочерью каждый день часа по два прыгали на батуте; словом — не отдых, а сказка.
Я подумал: мы из племени горожан, то есть из тех, кому для решения почти любой проблемы требуется сделать что-то дополнительно: надо сбавить вес — ищем какую-то новую еду; надо расслабиться — воздействуем на себя звуками; надо разместиться поуютнее — меняем дом или квартиру. Покупать больше, есть больше, зарабатывать больше. А здесь, на острове, у нас не было никакой возможности что-то сделать. У нас ничего не осталось, кроме естества в чистом виде.
Мы ощущали утомление, когда солнце садилось, и прилив сил, когда оно вставало; мы весь день воспринимали целительный ритм прибоя; тепло и соль омолаживали наши тела.
Вместо того чтобы пытаться достичь покоя, добавив новую идею (качество проведенного времени, супружеская спайка, ответственность…), мы естественным образом избавились от шума и суеты перегруженной делами жизни, и оказалось, что никакой новой идеи нам не нужно. Мы увидели, что нам достаточно самой что ни на есть фундаментальной идеи: единство семьи.
Мне все-таки пришлось улететь с острова на два дня раньше них: были дела в Лос-Анджелесе. Садясь на самолет, я испытывал тайную радость из-за предстоявшего возвращения к наркотическим привычкам трудовой жизни: буду встречаться с людьми, говорить по телефону, валяться поперек кровати, курить сигары в номере отеля.
Я помахал в окно самолета, вернулся в писательскую колею, и мне пришли в голову кое-какие мысли. Вначале я вспомнил высказывание Торстейна Веблена, что ни о ком, кто отправляется в деловую поездку, не заплачут, если он не доедет. И сказал себе: ты знаешь, это так.
А потом я подумал про Гиппократа и его лечебницу на острове Кос, где на больных благотворно действовали мирные виды, теплый ветер и восстанавливающий силы ритм прибоя, где можно было выздороветь, позволив естеству вновь выйти на первый план; и мне стало одиноко без жены и дочки, и я с благодарностью вспомнил неделю, которую мы провели вместе у моря.
Перевод с английского Леонида Мотылева
Еще про американо-еврейский выбор:
Гилель Галкин. Иегуда Галеви
Грейс Пейли. Иммигрантская история