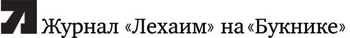Социалист Гершон Гуревич-Баданес после погромов покаялся, назвав себя и всю русифицированную молодежь отщепенцами. Его старший современник народник Вениамин Осипович Португалов (1835–1895) выступил, наоборот, с манифестом радикальной ассимиляции, и отщепенцем его заклеймила еврейская пресса. «Во-первых, я в глазах евреев — гой, ренегат, отщепенец, во-вторых, я принадлежу к Духовно-библейскому братству», — писал он впоследствии. Заклеймили не просто так: в так называемых «беспорядках» он обвинял самих жертв: «Еврейство, лишенное всяких гражданских прав, единственное средство к существованию находило в легальном и нелегальном эксплуатировании крестьянского труда». Оно должно исправиться: оставить торговлю и заняться физическим трудом, а также искоренить «ветхозаветные суеверия», противоречащие «прогрессу в культуре и цивилизации». В будущем же — «раствориться в европейских народностях». Тем более что переселение невозможно: «Неправильно считать, что антисемитизм имеет причиной отсутствие у евреев своей территории. Переселяться могут лишь те, кто не примкнул к европейской культуре… Культурное еврейство не уйдет, не расстанется с Европой. Ему очень хорошо и тут живется». Для равновесия Португалов пожурил и русский народ: «Пора и русскому обществу и русской печати проявить несколько более осязательную дозу справедливости».
 Вениамин Португалов. Фото 1860-х годов
Вениамин Португалов. Фото 1860-х годовОна была написана в два приема: в 1887 и 1892 годах по просьбе Семена Венгерова; писал ее Португалов не столько как документ своей жизни, но как автопортрет, исповедь и мемуары. Обширный материал, изложенный на 134 страницах, объединен идеей общественного прогресса (противопоставлены два времени: «тогда» и «теперь»), а Россия предстает в виде страны со смешанным населением, арены действия добра и зла.
В очерке патриархальной Малороссии, открывающем текст, нет ни общин, ни местечек; отдельные евреи, шинкари и кабатчики «торчат» кое-где среди украинских крестьян:
В 30-е годы настоящего столетия Малороссия [была] покорной, смирной, совершенно довольной своим бытом, всей окружающей обстановкой, арбузами и дынями, своими мелодичными песнями и другими явлениями патриархального благоденствия. Вся Малороссия была просто хутор. Сомкнутый круг из непрерывной цепи помещичьих имений, в которых вечно и без устали работает мощный и сильный богатырь малоросс-крестьянин. Изредка эту сельскую цепь прерывал какой-нибудь паршивый городишко, отличавшийся от хутора лишь тем, что тут была почтовая контора, казначейство, погребок с вином и две-три лавки. Среди сплошного населения малороссиян изредка <…> где-нибудь в помещичьей усадьбе торчал еврей-шинкарь или кабатчик. Всё казалось существующим от века, как сама природа.
Национальные обычаи и религиозные обряды, продолжающие уклад прошлого, — не характеристика культурного своеобразия, но противостояние прогрессу, по мнению материалиста-шестидесятника.
В то время евреи очень строго придерживались издревле установленных обычаев. Они носили бороду, брить бороду считалось непростительным нарушением религиозной святости. Они всегда должны были прикрывать голову, даже сидя в комнате, какой-нибудь шапочкой или ермолкой. Одевались в длинные сюртуки из шелковой или суконной материи, опоясываясь шелковым поясом. Пища должна была приготовляться только евреем и по установленным правилам. Отведать какой-нибудь пищи у христиан — значило рисковать общественной репутацией. Якшаться близко с русскими было весьма предосудительно. Бывать у русских в доме не по делу, подавать руку барыням, разговаривать с барышнями, гулять с ними — все это значило сделаться а гой, то есть, сделаться отщепенцем, изменником, отступником от И-говы, а ведь хуже этого в глазах тогдашнего еврея трудно себе что-нибудь вообразить.
В дополнение к этой отсталости поборник равенства отмечает послушность еврейских подданных режиму.
Осип Григорьевич (отец автора. — Н. П.) питал к государю и всему царскому дому непритворное чувство глубокой любви и привязанности. В этих чувствах мы все были воспитаны и выросли. С одним отец мой не мог мириться: ему казалось каким-то недоразумением или просто злым роком, что император Николай не любил жидов и относился к ним всегда очень сурово. Но все-таки отец <…> видел в этом, прежде всего, вину самих же евреев. Во всем остальном покойный государь был непогрешим и идеалом мудрого монарха.
В картинах жизни собственной семьи, двух дедов и отца, появляется теплота, Португалов умеет талантливо передать колоритность персонажей, при этом общий сатирический тон остается: откупщики, погруженные в мир русского барства, восприняли и его нравы.
Сам дед высокого роста, тонкий, худой еврей, который, уверяли, в молодости быть недурен собой. Он любил пить. Когда ему подавали чай, то обыкновенно вместе подавали и графинчик с водкой. Он выпивал глоток чаю и доливал водкой, снова выпивал глоток и снова доливает, так продолжал он кушать чай, пока не выпивал весь графинчик. Выпивши, он становился грозой и был подчас ужасен. Обругать прислугу, приколотить служащих, оскорбить кого из дочерей — явление повседневное. Дочери боялись его, как огня. Любимое его занятие состояло в том, чтоб ранним утром вдруг отправиться на рынок и накупить всякой всячины: дров, птицы, муки, сушеной рыбы (тарани), фруктов и всякие принадлежности хозяйства. Но ему доставляло особенное удовольствие обсчитывать мужика. Не доплатить мужику копейку и поднять гвалт на весь двор — была его потребность <…> сцены повторялись аккуратно в каждый базарный день.
Острота повышается, когда Португалов вспоминает о воспитании и религии, служившей способом удержания родительской власти.
Маленьким мальчиком я был набожен, но, подрастая, еврейская набожность мне очень скоро наскучила своим однообразием и суровостью. Меня всегда пугали особенной суровостью Б-га. На каждом шагу я сталкивался с суровым каранием за малейшее опущение по вере, чего я очень боялся. Очень часто меня пугали, что, если я не буду усердно молиться Б-гу, то меня возьмут в солдаты и что от рекрутчины я могу спастись только горячей молитвой. <…> Вдруг мать ни с того ни с сего пожалуется отцу, что я уже давно не молюсь Б-гу, и отец бывало в таких случаях [бил] меня чем ни попало, тонкой линейкой, просто пинками, розгами. То же самое нередко доставалось и от матери.
 Евреи Одессы на прогулке. «Иллюстрированные лондонские новости». 1856 год
Евреи Одессы на прогулке. «Иллюстрированные лондонские новости». 1856 годКогда я пришел в первый раз в класс, ко мне подошел гимназист несколько старше меня и спросил мою фамилию. Я назвал себя. «Ты жид?» Сразу я не нашелся, что ответить. Мне это показалось ужасно оскорбительным. Во-первых, тон вопроса был в высшей степени обиден, а во-вторых, я никак не ожидал, что такой вопрос может относиться ко мне, именно ко мне, мальчику, ничем не отличавшемуся от остальных гимназистов, прилично, чуть не щегольски одетому. Моего уха эта кличка до сих пор не касалась. Я вырос в семье, где папаша и мамаша считались господами, прислуга величала их по-малороссийски «пан» и «пани». Я знал, что есть жиды, но это те, которые к нам в дом также являлись в качестве низших, между тем как я принадлежал по всем внешним признакам к семье высших. Во всем я был такой же паныч, то есть барчук, как все другие. Этим прозвищем меня и называла прислуга и все окружающие. Но я в то же время знал, что слово «жид» означает что-то ругательное… И вдруг ко мне обращаются с вопросом, не жид ли я. Это меня озадачило, оскорбило, но мной тогда же овладело чувство собственного достоинства, и я решил сказать, что да, я жид, но в то же время употребить все зависящие от меня средства, чтобы доказать, что я не жид, или что я жид, но нисколько не хуже, напротив того, даже лучше других.
Когда мне он предложил вопрос «Ты жид?» — я смолчал. Вопрос был повторен. Я ответил: «Да!» — «Перекрестись!» — раздался повелительный голос мальчугана. Надо мной совершалось и физическое, и нравственное насилие. Я хорошо понимал, что креститься крестным знамением противоречит всему моему воспитанию, моей религии, моим тогдашним понятиям и нравственности и чести, или таковым понятиям моей родни. Я знал, что если бы об этом узнали дома, то мне больно достанется. Но в то же время я сознавал, что я иноверец, попал в русскую гимназию, что передо мной не гимназист сам по себе, а господствующая сила, что за спиной этого гимназиста — миллион… и 20 миллионов его единомышленников, симпатизирующих ему, солидарных с ним. Не креститься было страшно. Прибьют». Это мне казалось пустяки. Не столько я в то время был религиозно настроен, что за своего Б-га я готов потерпеть несколько физических мук, но мне показалась ужасной та вражда, в какую я стал бы со всеми гимназистами, отказавшись перекреститься. Предо мной группа юных существ, таких же, как я. Мне хочется скорее с ними познакомиться, сойтись, мне чудится, что у меня с ними много общего, что я с ними во всем солидарен, за исключением религии, дома же у меня никаких интересов со старшими. Я хочу, чтобы эта среда однолетних со мной мальчиков сразу стала моею, чтоб это были мои товарищи, мои единомышленники; я уже готов порвать с родней, лишь бы сойтись с подходящей средой. Анализируя свои тогдашние понятия, думаю, что я не ошибаюсь. Я перекрестился. Но я тогда же внутренне поклялся, что я никогда не перейду в православие. «Креститься» же я оказался готов хотя бы ежеминутно, так как я тогда в этом увидел средство стать в интимные отношения с гимназистами. «Ты сало ешь?» — последовал вопрос. «Нет!» — ответил я. Но в ту же минуту оказался кусок свинины. Клянусь, мне пришлось первый раз в жизни испытать чувство самого непреодолимого отвращения, но я выдержал характер и съел кусок свинины, не поморщившись. Я и до сих пор не ем свинину в малороссийской форме, то есть просто сало, хотя я очень люблю колбасу. Я вообще не люблю жирной пищи, но свинина для меня и теперь отвратительна. Тем не менее, я исполнил тогда все требования. Раздались радостные крики: «Он наш!» — и у нас установились отношения равенства и братства сразу. Я ничего обо всем случившемся не сообщил дома, тщательно скрывал все такого рода события, но я в тот день положительно торжествовал. Я добыл себе ценой отрешения от условных предрассудков солидарность и дружеские отношения с товарищами. В тот момент я стал русским патриотом и мальчиком, почти совсем отрешенным от всего своего национализма.
Последовавшие за этим шаги: стать студентом, жениться на любимой женщине и прочее — дались легче.
 Базарная улица, Самара. Начало XX века
Базарная улица, Самара. Начало XX векаВ университете началась новая эпоха, эпоха «теперь», молодой человек живет новыми идеалами, восхищается новыми героями.
Я себя не узнавал. Ореол военной славы и высокопарности был разбит. Кредит к великим благодетелям отечества совершенно исчез. Просто установилось парадоксальное убеждение, что всякий генерал — подлец, грабитель народа, срамота родной земли, отсюда обозвать генерала — подвиг, за который стоит поплатиться жизнью. Так прошел год. Я себя не узнавал.
<…> откуда ни возьмись, вдруг появилось письмо Герцена к государю. С электрической быстротой письмо это сделалось достоянием молодежи. Оно привело нас в какое-то экзальтированное восторженное состояние. Мы заучили его наизусть, мы беспрестанно его повторяли, декламировали его, читали другим, переписывали сотнями экземпляров, раздавали знакомым. Это письмо произвело на нас какое-то чарующее и магическое действие. Не понимая даже значения слова «я неисправимый социалист», мы подразумевали одно — что это должно быть что-то хорошее, и конечно была полнейшая готовность стать в ряды этой партии, этого ополчения за народ, за его страдания, за его испытания и унижения. Имя Герцена явилось какой-то непостижимой святыней. Его слово было закон. Его мнение — непогрешимая правда, несравненно выше всякого папы. Это был и стал просто идол, на которого молились, самый высокий авторитет нравственности, чести и идеального благородства. Он произнес для нас новое великое слово свободы.
Португалов сливается с поколением нигилистов: харьковская тюрьма, Алексеевский равелин, учеба, кружки, высылки и выдворения. Он не собирался стать идеологом или лидером, в боях за справедливость опирался на помощь интеллигентных людей: писателей, ученых, медиков. В нем появляются такие отсутствовавшие в семье качества, как отвага и непреклонность.
Одновременно с Пироговым в Киев тогда же вернулся знаменитый граф Павлов, бывший в большой дружбе с Герценом и Огаревым. Основавшись в Киеве, мы вскоре перенесли туда свои харьковские привычки. У меня в квартире основался товарищеский студенческий литературный кружок. По воскресеньям собирались мы вместе и проводили целое утро в беседе и чтении. Вскоре мы узнали, что в Киеве студент Сретькович, серб, поэт и сотрудник «Русского вестника» тогдашнего Каткова. Мы его пригласили, и он был встречен восторженно. Он нас познакомил и сблизил с профессором Павловым. Никогда не забуду ни прогулки по окрестностям Киева, по монастырям, ни катаний по Днепру с песнями революционного свойства, ни интимных задушевных бесед с профессором Павловым. Вскоре Павлов стал идолом, на которого молодежь молилась и обожала!
<…> В Харькове нас держали дней 10 в тюрьме, а потом повезли в Петербург в Алексеевский равелин Петропавловской крепости, где мы очутились 27 февраля 1860 г. и где нас продержали пять месяцев в одиночном заключении. Тогдашний министр Народного Просвещения Ковалевский спросил Пирогова: «Какого поведения арестованные у Вас студенты?» Пирогов ответил: «Вы отняли у меня лучшее украшение Университета». Сколько доблести нужно было иметь, чтобы так ответить о студентах, арестованных и обвиняемых в государственном преступлении!
Третье отделение не позволило мне вернуться в Киев, но препроводило в Казань, где я пробыл 5 ½ месяцев, до декабря 1860 г. Кончил и выдержал экзамен на врача, устроил кружок из студентов и гимназистов, посеяв «сеничкин яд». Отсюда я вернулся домой в Полтавскую губернию и практиковал в Пирятине Полтавской губ. частным врачом.
Национальное сознание не исчезло совершенно. Португалов ввязывается в драку с антисемитской газетой «Основы», в полемику с Иваном Аксаковым. Нужно было стать двухголовым: отвечать на нападки юдофобов и одновременно доказывать, когда речь шла о карьере, что он не такой еврей, как другие, или совсем не еврей.
 В 1872–1873 годах началось строительство самарской губернской земской больницы
на улице Полевой по проекту академика архитектуры И. Штрома. Вениамин
Португалов лично посещал Штрома в мае 1872 года в Петербурге и участвовал в составлении проекта
В 1872–1873 годах началось строительство самарской губернской земской больницы
на улице Полевой по проекту академика архитектуры И. Штрома. Вениамин
Португалов лично посещал Штрома в мае 1872 года в Петербурге и участвовал в составлении проектаСоциалист и народник Португалов сам определяет, когда принадлежать к еврейскому народу, а когда нет, идентичность зависит от нравственной оценки. Один из единоверцев оказался доносчиком: «Я был оскорблен в глубине души: мне сделалось противно все еврейское племя: ничто меня так не возмущает, как донос; все готов простить, все, кроме доноса. Вопль негодования вырвался у меня тогда из груди в форме статьи “Евреи — пионеры” в “Неделе”. Я готов был на все, чтобы вырвать с корнем всякий след моей прикосновенности к еврейству. И теперь я еще не могу вполне отрешиться от искреннего взгляда, что евреи — самое испорченное (российским правительством) и самое некультурное племя даже в интеллигентных своих слоях и что оно в подметки не годится даже рабу-народу русскому».
Во всем остальном, что не имеет отношения к еврейству, он — цельная личность, постоянно готов к боям за общественное благо, уверен и доволен собой.
В Пирятине мне очень хорошо жилось: я имел большую практику среди помещиков, ухаживал за барышнями, вообще — жил. Управляющий акцизами был брат моей будущей жены Шайкович. Там было тогда 4 винных склада, принадлежащих евреям. Я их обязал через Шайковича вносить за каждое ведро водки по одной копейке. Из этих копеек собирались сотни рублей, и эти деньги шли аптекарю за уплату за лекарства беднейшим больным, а я, разумеется, лечил их всех бесплатно. Это крайне расположило ко мне еврейскую массу; среди помещиков же у меня было несколько знакомых семейств, которые меня на руках носили.
 Заглавная страница «Санитарного очерка Самары» Вениамина Португалова
1888–1889 годы
Заглавная страница «Санитарного очерка Самары» Вениамина Португалова
1888–1889 годыСвоей брошюрой Португалову хотелось произвести на еврейское общество впечатление, подобное тому, которое произвел автор «Автоэмансипации» Лев Пинскер. Во многом заимствованная у Духовно-библейского братства программа радикального ассимиляторства отвечала его взглядам, но не была освещена сопричастностью, воодушевлявшей его публицистику. Если статьи об общественной гигиене вопили о катастрофе, в еврейском вопросе «праведник» и «человек, не знающий сна» был поучителен и рационалистичен. Оттого возникало искажение картины, когда, например, отношение крестьян к евреям как к эксплуататорам он называл универсальной причиной погромов.
Иного определения его личной позиции, кроме как «отещепенец», в момент национального подъема еврейская пресса дать не могла, слов не хватало. Автобиография некоторым образом снимает однозначность подобных оценок. Сыновья Португалова упростили семейную ситуацию, перейдя в христианство.