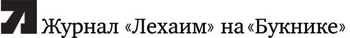С бутылкой водки в руке я стою на седьмой сверху ступеньке выхода из метро «Третьяковская» и прошу милостыню. Вернее, даже не прошу – требую. В былинном таком ключе: «Подайте на бухло, люди добрые! Подайте на бухло, люди русские! Люди добрые, люди русские! Подайте Христа ради ветерану ливанской войны на бухло!»
А одет я в черное роскошное пальто, которое было куплено за тысячу двести долларов в Нью-Йорке. Лет пятнадцать назад. На мне также льняные белые штаны, как у Ихтиандра, они полощутся на мартовском ветру. Обут я в разбитые армейские ботинки без шнурков. Волосатую грудь – под пальто ничего нет – украшает израильский армейский жетон.
В качестве попрошайки я пошел по пути агрессивного маркетинга и не ошибся: люди добрые, люди русские откликаются в общем и в целом неплохо. Приняв подаяние, я благодарю страстно, от сердца: «Спаси Б‑г, сынок! Бей жидов, сынок! Бей жидов, дочка!»
Бывает, что какой-нибудь русский интеллигент, пересилив страх и отвращение, взывает ко мне в том духе, что я махровый антисемит – как не стыдно! как не стыдно! Это моменты моего триумфа. Я хватаюсь за солдатский жетон Армии обороны Израиля: «Шибко грамотный? Читай! Что? Иврита не знаешь, жидофил? Ну так я тебе раскумекаю: “Мартин Зильбер. Личный номер 1358673”. Сайерет маткаль, слыхал о таком? Спецназ Генштаба! Понял, нет? Я за Израиль кровь проливал! Ну да Г‑сподь с тобой, ступай с миром, сынок! И бей жидов!»
Я делаю глоток из бутылки, занюхиваю рукавом американского пальто. Я не мылся, не брился и не ел уже десять дней. Жё не манж па ди жур.
Вниз по лестнице расположились другие завсегдатаи «Третьяковки». Человек-сэндвич баба Настя, натуральная Баба-яга. Промотирует секс-шоп. С непредсказуемыми интервалами издает дикий вопль: «В интим зашел – счастье нашел!» За ней – девочка-припевочка Марина, вся в вязаном, со своей ручной крысой Хельгой и рекламной картонкой «Мы хотим в Париж!» У нее псориаз какой-то, по-моему, у этой крысы, между ушей. Но подают им охотно, особенно пассажиры с детьми. Дальше идет безымянный бомж на коленях. Он истово кладет поклоны, но это не добавляет ему аттрактивности, и сборы его невелики. И в самом низу, но не низший – Вадик Флейтист. Он играет хорошо, только слишком тихо для выхода из метро.
Я делаю технический перерыв, чтобы заскочить в «Макдональдс» и там в сортире пересчитать бабло. Кажется, моя карьера совершила крутой вираж и выходит на новые рубежи: триста восемьдесят девять рублей! Притом что я до трехсот еще никогда не доходил.
Я возвращаюсь к метро и ору сверху:
– Флейтист! Эй, Флейтист! Поднимайся давай!
Вадик играет тихо, зато слышит хорошо. Он резко прерывает «Шутку» Баха, складывает флейту и бежит наверх, прыгая через две ступеньки.
Мы проходим по Климентовскому и спускаемся в «Апшу», демократический отстойник с умеренными ценами. Здесь мне разрешают распивать принесенное с собой. Разрешили, конечно, не сразу. Просто как-то раз попробовали не разрешить, и тогда их сраное кафе с менеджером-кореянкой услышало всю правду о жидах, которые спаивают русский народ, и теперь меня терпят здесь в не худшей из моих ипостасей. Это когда я рассказываю Флейтисту что-нибудь философическое, подливая в рюмки (первые две я честно покупаю у заведения) и не слишком форсируя голос. Шугаются только за соседними столиками.
– Не, а ты понимаешь суть теоремы Гёделя «О неполноте» в ее самой житейской, самой банальной и самой попсовой формулировке? – спрашиваю я и оглядываю окружающих, чтобы никого не упустить. Речь идет об очень важных для всего человечества материях.
– Не, в такой формулировке я, пожалуй, совершенно ее не понимаю, – признается Вадик.
– Слушай тогда внимательно, – говорю я и перехожу на шепот, склоняясь к уху Флейтиста (а на хера раскрывать тайну всем и каждому), – в любой достаточно богатой системе аксиом существует утверждение, которое внутри этой выбранной системы аксиом нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть.
Я в теме и прекрасно отдаю себе отчет в том, какого рода информацию я сообщил сейчас Флейтисту. Эта фраза. Как вам объяснить? Вот если бы человечеству грозила гибель и нужно было передать потомкам весь человеческий опыт, его квинтэссенцию, то она – квинтэссенция – была бы в этой фразе.
– Понял? – я заглядываю Вадику в глаза.
– Понял, – говорит Вадик.
Я не верю ему ни разу. И вообще, он начинает меня раздражать. Но я должен смирить гордыню. Я ведь ангел, настоящий ангел, посланник Б‑жий. И если Вадик Флейтист не понимает того, что понимаю я, это не вина его, а беда.
– Ладно, брат! – в предвкушении того, что собираюсь сказать, я пробиваюсь слезой восторга. – Только тебе и… только сейчас… здесь… сегодня… веришь?
– Верю, – отзывается Флейтист.
– Слушай и мотай на ус, – шепчу я ему прямо в ухо. – Правды нет, брат! Нет ее, правды! Как не было, так и нет! Какую ты, блядь, систему аксиом ни возьми! И отсюда какой следует вывод?
– Какой? – спрашивает Флейтист. Он заметно нервничает.
– А такой, что надо вовремя менять аксиоматическую систему. Побег из предлагаемых обстоятельств – вот единственная форма движения!
– Ну ты загрузил! – Вадик хватается за голову и начинает мотать ею из стороны в сторону. – Ну ты запарил, брат! Да как же теперь жить-то?!
– Не парься, брат! – говорю я ему. – Я сейчас схожу поссу, а потом объясню тебе, как надо жить.
Я запахиваю пальто и начинаю маневрировать между тесно расставленными столиками. За одним сидит компания молодых ребят, и, проходя мимо, я ловлю синхрон плачущей девушки, которая всхлипывает, размазывая тушь: «И вот я, домашняя, блядь, девочка, должна, как сука, вкалывать целый день в офисе!»
Я начинаю думать о том, что это крик нового поколения, да и моего в том числе, и что я должен быть счастлив, даже если жизнь моя трудна и безнравственна. Но ведь если бы я сидел каждый день в офисе, то такая жизнь показалась бы мне, конечно, совершенно невыносимой и я готов был бы сменить ее хоть на галеры – хотя на галерах я бы тоже долго не выдержал… Но там уже все, там бежать некуда. Настоящий и последний экстрим – так думаю я, выходя из туалета, и налетаю прямо на Сергея.
– Здрасьте, Мартын Александрович! – говорит Сергей и улыбается мне кинг-конговской улыбкой.
– Здравствуй, Сережа, – говорю я спокойно и пытаюсь разглядеть за тушей этого орангутанга моего друга Эйнштейна. Что-то не видать.
– А бежать вам некуда, Мартын Александрович, – ласково произносит Сергей.
– Знаю, Сережа, – признаю я смиренно и сразу делаю озабоченное лицо: – А что это за х...я у тебя к жопе прилипла?
Радостно глядеть, как этот перекачанный амбал покупается и обеими руками хватает себя в панике за задницу. Я изо всех сил бью его ногой по яйцам. Но я пьян, слаб и неточен. Хорошо бы, проносится у меня в голове, сменить аксиомы прямо сейчас и перейти в другую систему координат.
Возможно, в будущем люди научатся менять систему мгновенно и побег из предлагаемых обстоятельств станет секундным делом. Но пока это еще трудоемкое и затяжное предприятие.
Сергей успевает нанести мне два чудовищных удара, прежде чем его останавливает голос Эйнштейна:
– Сергей! Я просил нейтрализовать, а не калечить!
– Альберт Исаакович, он первый начал! – оправдывается Сергей.
Я не могу дышать от удара под дых и ничего не вижу, потому что кровь из рассеченной брови заливает мне лицо. Где-то это уже было… Ах, да! Это когда в иерусалимском пабе «Пророки» много лет назад мне разбили голову бутылкой, вот так же кровь мешала зрению.
– Пакуйте, Сергей, пакуйте клиента! – приказывает Эйнштейн.
– Альберт! – молю я, задыхаясь. – Дозволь попрощаться с товарищем по нищете!
– Прощайся, – разрешает Эйнштейн. – Только быстро.
Я шагаю через три зала, капая кровью (или «иcкапывая кровью» по модели «истекая»?), и во весь голос пою, но не об этом. Я пою старый и прекрасный цыганский романс о женщине, которая едет домой. По пути к дому ей кажется, что все окружающие смотрят на нее с лаской и любовью. Душа ее полна. Душа ее то путается, то рвется. То рвется, то путается!
Я вдруг осознаю, что на полной громкости выкрикиваю песню прямо в лицо официантке, которую схватил за плечи и трясу так, что ее наполненные ужасом глаза то появляются передо мной, то снова исчезают.
– Слиха! – извиняюсь я почему-то на иврите.
Все, надо и вправду сваливать. Это место как-то себя уже изжило... Так, а кто же здесь Флейтист? А, вон он!
– Флейтист! – зову я.
Ко мне оборачиваются десятки лиц.
Ну раз так, тогда я обращусь уже ко всем:
– Люди! Наша интеллектуальная база покоится на чрезвычайно хлипком основании! Будьте бдительны!
И ухожу.
Тропою снежною к черному-пречерному лендроверу. А за рулем в нем Сережа-шкаф сидит.
В машине Эйнштейн начинает причитать:
– Нет, блядь, но почему я? Почему я? С каких дел? За какие такие грехи? Г‑споди! За что? За что ты сделал меня женой алкоголика?!
– Take this cup away from me, for I don’t want to take this poison! – отзываюсь я песней с заднего сиденья.
– Г‑споди! Какой же ты противный, когда пьяный! Мартынуш! Не пей, а? Умоляю! Пожалуйста! – произносит Эйнштейн устало и горько.
Мне становится ужасно стыдно. Честное слово.
Но еще ужаснее мне хочется выпить.
Но теперь уже больше никто не даст.
Мне предстоят капельница, долгий сон на транках и две недели в психушке на амитриптилине.
А все не так плохо☺
Текст опубликован в журнале "Лехаим", № 10, 2010 г.