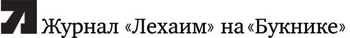Беседу ведет Афанасий Мамедов

Узкий круг героев
Виктор Голышев,
переводчик
— В интервью Анне Наринской вы говорили о несовпадении характера переводчика Сэлинджера и его героя: «Я наблюдал Риту Райт, она из породы победителей, а Холден Колфилд — пораженец. А такое совпадение, несовпадение — очень важно». Почему Колфилд кажется вам пораженцем? Не только я, но и мое поколение считали его «бойцом насмерть». Тем не менее, продолжу вашу мысль: второй любовью Райт-Ковалевой был Ганс Шнир из романа «Глазами клоуна». Страсть к «беглецам» — это национальная российская черта или еврейская?

— Отношение к Сэлинджеру у многих его почитателей несколько изменилось после выхода в свет книги Маргарет Сэлинджер, дочери писателя, «Над пропастью во сне». Из нее мы, к примеру, узнаем, что просветленный отшельник не прочь был шагнуть от дзена к хасидизму. Помешала малость: хасиды начали допытываться — писатель еврей по отцу или по матери. Но если бы Сэлинджер ушел в иудаизм, суггестика его письма заметно изменилась бы?
— Должно быть, перемена веры меняет мировосприятие не только у писателей. Перемене веры едва ли могли препятствовать формальные причины. Как она могла сказаться на Сэлинджере — это из области сослагательного. В любом случае, как настоящий художник, он едва ли был очень расположен что-то внушать — «суггестировать».
— Не кажется ли вам, что у Джерома Дэвида Сэлинджера и Саши Соколова много общего, причем не только отшельничество?
— Не знаю, отшельник ли Саша Соколов, он, по-моему, печатался. Когда-то Хемингуэй выразился, кажется, в том смысле, что писателю вариться в Союзе писателей вредно, ему бы лучше быть наедине, ну, не с вечностью, но с чем-то побольше общества себе подобных. Что до Сэлинджера, в начале 1960-х у меня было отчетливое ощущение, что он перестанет писать: слишком узкий круг героев, ощущающих себя духовными аристократами. Как говорят, писать не перестал, перестал печататься. Но последний его рассказ, который я читал, был слабый. Не чета тем девяти. О том, что общего у Саши Соколова с Сэлинджером, не готов говорить. Технически они совсем разные, значит, и вообще разные. Искать у Сэлинджера сходства можно с кем угодно, от Фицджеральда до раннего Войновича, но эти параллели дают разве что хлеб литературоведам.
— Сэлинджер высказался так в последнем прижизненном интервью: «Есть огромная радость и спокойствие в том, что ты не печатаешься. Мне нравится писать. Я люблю писать. Но делаю это ради своего удовольствия». Возможна ли в сегодняшней литературной России такая ситуация, когда писатель экстра-класса «чихать» хотел на то, что происходит в родном гнезде?
— Писатель пишет в родном гнезде — создает, а не чихает. И даже если в чужом месте — все равно в своем гнезде, потому что гнездо — это язык и сознание. Рукопись может не попасть в печатную машину, ее могут уничтожить, но работа сделана, и почему-то мне кажется, она не пропадает. Ничего такого особенного в сегодняшней литературной России нет, что отличало бы ее от литературной ситуации в других цивилизованных странах: отношение к литературе становится более меркантильным, а ее роль в умственной жизни — меньше.
Пацан из «Америки»
Борис Жутовский,
художник, оформитель первого русского издания Дж. Д. Сэлинджера
— В каком виде вы впервые прочли «Над пропастью во ржи» и какое впечатление произвела на вас эта повесть? Как появился мальчик на обложке? Почему на обложке нет очень важной детали — зарешеченного окна, которое есть на картине «Сын Альберта»? Почувствовали ли вы, что этот образ, созданный американским художником Уайетом, благодаря вам станет иконой русской литературы?
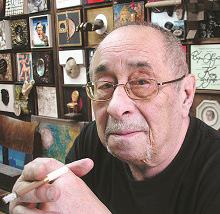
— Как вам в середине 1960-х удалось пробить такое необычное оформление книги: на обложке нет ни имени автора, ни названия книги, только на корешке значится «Дж. Д. Сэлинджер»? Не помогла ли вам тут история с выставкой в Манеже? Или издательство «Молодая гвардия» решило поработать «на вечность»?
— Слишком громко сказано. В издательстве «Молодая гвардия» я работал с 1957 года, а события в Манеже были в 1962-м. Конечно, об этом все знали, сразу после этих событий директор издательства сказал мне: «Ну, ты нас подставил», и на два года я частично лишился работы: две книжки в год я делал под своим именем, остальные пять-шесть книжек мне давали тайком, и они выходили под другим именем. Дело в том, что к скандалу на выставке в Манеже все относились несколько иронично. Но в 1964 году, когда с треском сняли Хрущева, «санкции» закончились, потому что все хрущевские экзерсисы были поставлены под сомнение. И в 1967-м, когда вышел Сэлинджер, у меня в издательстве шла уже обычная работа. Я не первый, кто использовал в оформлении книжной обложки такой прием — оставить только картину (в твердом переплете это была суперобложка). Ничего нового я здесь не придумал.
— 16 января 2009 года умер художник Эндрю Уайет. Уже год прошел, как ушел от нас Сэлинджер, а планетарный отряд из ныне здравствующих словно бы и не замечает потерь. Мало оказалось написанного, ждут продолжения легенды?
— Люди в России и не только в России перестали интересоваться книгой. Все это осталось в прошлом, это история литературы, музей. К тому же Сэлинджер уже давно удалился в свой «бункер», и это тоже сыграло свою роль. Судьбы разные, и это не единственный подобный случай в литературе. А по поводу того, кто и сколько написал, я прочту вам молитву, которой я заканчиваю свою книгу: «Б-же, Ты привел меня к убеждению, что способности, пожалованные Тобой, есть высшее счастье, высочайший дар; и большой грех — ждать еще и от людей и времени фанфар славы и лавин злата за состоявшесть одарения. Грех невозвратный: переступив эту черту, ты оказываешься во власти дьявола, и оттуда уже нет возврата. Б-же, спасибо Тебе!» Есть два направления человеческой жизни: самосовершенствование и успех в жизни. Если внутренне желание самосовершенствования толкает меня к тому, чтобы писать двадцать или тридцать книг за жизнь, я делаю это. Если это же желание толкает меня на одну книгу в жизни — и слава Б-гу. Но когда вступает в силу категория успеха в жизни — я вот уже двадцатую книгу пишу для того, чтобы о них прокричали, наградили, заплатили и сделали из меня бронзового идола на углу какой-нибудь улицы, — это другая история. Сэлинджер, на мой взгляд, безусловно, шел по пути самосовершенствования.
— Рассказ «В ялике» — яростная «затрещина» американскому антисемитизму, а «Хорошо ловится рыбка-бананка» — не менее яростный вызов пошлости ассимилированным евреям США. И в том и в другом случае национальная принадлежность автора сомнений не вызывает. Однако для американцев Сэлинджер — стопроцентно «свой», тогда как Беллоу, Маламуд, Рот — «американские писатели еврейского происхождения».
— У меня такое ощущение, что антисемитизм — это форма поведения определенного вида людей на земле. Это не имеет отношения ни к англичанам, ни к французам, ни к русским. Так себя ведет этот вид. Во-первых, зависть к славе, к известности. Во-вторых, поиски врага: кто виноват в том, что у нас нет чего-то? В России антисемитизм долгое время был элементом государственной политики, государственного отношения к еврейской нации: от черты оседлости в царское время до антисемитизма сталинского времени. Посмотрите сейчас: у нас каждый третий политик — еврей. Враги у нас теперь гастарбайтеры, мусульмане, фашиствующая молодежь — те, от кого нам плохо, или же те, у кого всего больше, чем у нас. Про Березовского или Смоленского никто не сказал, что они богачи-жиды, нет, они — олигархи. Человек — единственное животное на земле, которое знает, что оно умрет. И страх перед смертью — главная задача религии. Во всех религиях мира обещается продолжение жизни. Религия помогает человеку преодолеть страх перед смертью. Человек делает что-то для того, чтобы оставить это во времени. И Сэлинджеру тоже захотелось оставить во времени то, что тогда его поразило, — это и любовь, и антисемитизм, и любовь к природе. А то, что Сэлинджер стал стопроцентным американским писателем, а Сол Беллоу — нет, это всё интеллектуальные конструкции.
Она перевела, будто он диктовал ей
Анатолий Найман,
поэт, прозаик, эссеист
— В 1960 году в «Иностранке», в 11-м номере, появляется роман мало кому известного американского писателя Дж. Д. Сэлинджера, получивший в русском переводе название «Над пропастью во ржи». С той поры становится ясно, куда бежал «Ловец». А у кого из молодых писателей 1960-х чаще всего «гостил» Холден Колфилд? Что значил «Ловец» для вашего поколения?
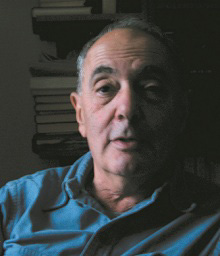
— «Классно», «и все такое…» — словечки из лексикона «ловца во ржи», доставшиеся нам по наследству. Самое время задать вопрос о Рите Райт, без участия которой кетчер Холден Колфилд вряд ли бы очутился в СССР.
— Это потом появились критики с претензиями к ее переводу. Еще позднее, когда сам прочел по-английски, я понял, что это две тесно связанные, но самостоятельные вещи: то, что написал он, и то, что сделала она. Так же как его поклонники в России, Америка была взбудоражена, после чего поместила эту книгу в музей. В 1990-х, когда я там преподавал, «Над пропастью» была по-прежнему живой только для русских эмигрантов. Сильное эхо отдалось и в тогдашней нашей литературе. Я — и думаю, не я один — читал аксеновский «Звездный билет» как явственный отзыв на Сэлинджера, как отзвук книги о Холдене Колфилде. «Билет» тоже прочли «все» — и оценили как свое, узнаваемое. Получился как бы сдвоенный удар: перевод — и собственная, российская ему параллель. По сравнению с первоисточником сниженная, упрощенная, по краю допустимого, зато наша. Забавно, что в «Иностранке» публикация открывалась предисловием Пановой: ее пригласили потому, что она написала «Сережу», повесть о мальчике, достаточно честную, достаточно искусную, но советскую. Именно то, от чего героя Сэлинджера тошнило. Это была безоглядная схватка писателя и каждого, кто его читал, с общепринятым курсом жизни. С лживостью самого человеческого существования. За подлинность. Текст был крайней концентрации кислоты, она выжигала любую примесь, крошку, молекулу поддельности. А поддельным оказывалось все. При этом он был полон пронзительной нежности. Это был толстовский подход. А с другой стороны, в нем проступала непримиримость мандельштамовской «Четвертой прозы», примерно тогда же прочитанной в машинописи.
— В какой степени религиозные индийские доктрины и дзен-буддизм повлияли на творчество Сэлинджера? Можно ли получить удовольствие от Сэлинджера, не будучи знакомым с «Махабхаратой»?
— То, что Сэлинджер был дзен-буддист, значит для меня много меньше того, что он был сержантом при высадке в Нормандии.
— Когда вы открываете томик Сэлинджера, для вас имеет значение, что отец писателя — Соломон Сэлинджер, еврей российского происхождения? Вообще, стараетесь ли вы ознакомиться с генеалогическим древом автора, если он вам понравился?
— Что его папаша — еврей? Ну еврей. То, что при чтении Сэлинджера возникает мысль, не еврей ли он сам, вот что интересно. Безо всякого папаши. Как и вопрос, не евреи ли Глассы — герои «Франни и Зуи» и отдельных рассказов. Во всяком случае, по русским меркам.
Другой под тем же именем
Глеб Шульпяков,
поэт, прозаик, переводчик
— Мой компьютер выкинул коленце: хотел набрать «Убийца Леннона», а вышло «Убийца Сэлинджера». Верно, скрытый смысл есть не только в шутках. В твоем эссе «Ловец» тоже, кажется, прослеживается намек на «двойное убийство»?

— В «Ловце» ты пишешь, что, когда к тебе попала книга «Над пропастью во ржи» в переводе Райт-Ковалевой, ты ее читать уже не мог — все казалось картонным. Наверное, твое суждение касается не столько перевода, не менее легендарного, чем книга, сколько того, что любую книгу лучше читать в оригинале?
— Для советского читателя перевод Риты Райт стал культовым прежде всего потому, что оригинал найти было сложно. Да и английским далеко не все владели. Но если ты окунулся в Сэлинджера на английском — а я начал с оригинала — любой, даже самый прекрасный перевод покажется тебе искусственным. Ведь образ героя, его речь уже сформировались в твоем сознании. А тут тебе навязывают под тем же именем другого человека. И ты, естественно, считаешь его самозванцем. Хотя, если бы сначала в руки мне попался перевод Ковалевой — думаю, все могло быть наоборот. Да, мне кажется, прозу, особенно такую, где дистанция между языком и эмоцией минимальная, надо читать в оригинале. Вот со стихами бывает иначе, кстати. Поэтические переводы иногда становятся фактом русской литературы. Но «Над пропастью во ржи» — нет, не тот случай.
— А как ты отнесся к не менее легендарному оформлению книги, сделанному Борисом Жутовским? Верно ли он выбрал художника для обложки — Эндрю Уайета? Мальчишка-то хоть «тот самый»?
— Я был в ужасе от перевода и в восторге от обложки. Я не верил, что такое попадание возможно. С другой стороны, это было мое личное ощущение. Ведь у меня был альбом Эндрю Уайета, и я знал те чувства, которые рождает его живопись. Я уже любил те удивительные, буддийские состояния, которые испытывал вместе с героями его картин — одинокими, но при этом не несчастными людьми. Да, Уайет близок Сэлинджеру тем, что ты живешь внутри его героев. Переживаешь их состояния вместе с ними. Этот мальчик на обложке — это Холден, который осуществил свою мечту. Он уехал.
— Голливуд и литература — дорога с интенсивным движением в обе стороны. Два примера: «Запах женщины» и «Криминальное чтиво», в первом обыгрываются мотивы «Над пропастью во ржи», во втором есть прямые аллюзии на рассказ «Посвящается Эсме» — знаменитая сцена с часами погибшего на войне отца по-тарантиновски пародирует Сэлинджера. Говорит ли это о том, что для американцев уход из жизни писателя ничего не изменил, — как был классиком, так и остался?
— Это говорит прежде всего о том, что образы Сэлинджера вошли в обыденное американское сознание настолько глубоко, что их можно обыгрывать напрямую, без дополнительных объяснений. Ну, как у нас Пушкин... Вообще же «Над пропастью во ржи» — удивительно кинематографичная книга. Читая ее, ты видишь этот город, этих людей и этого героя. Ты слышишь их. Другой вопрос, что такой книге сложно найти адекватную режиссерскую и актерскую величину, особенно сейчас. Хотя случаи успешной экранизации книг с подобным эмоциональным накалом бывали — вспомни «Чучело».
Год без Сэлинджера показал, что образы, созданные им, не стерлись и прочно вошли не только в американское сознание. И все-таки в России он остается автором романа/повести «Над пропастью во ржи», с его пронзительной темой перехода-взросления. Сэлинджер таинственных «Девяти рассказов», древнеиндийских метафор сегодня мало кем воспринимается всерьез. «Куда улетают утки?» — знаменитый дзенский коан, вопрос, задаваемый учителем ученику, — естественно, не для того, чтобы получить ответ. Как и вопросы, заданные нам Сэлинджером, не из тех, на которые отвечают.