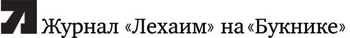Беседу ведет Ирина Головинская
Леонид Гиршович родился в 1948 году, по профессии музыкант, выпускник Ленинградской консерватории по классу скрипки. В 1973 году эмигрировал в Израиль, в 1974–1975 годах служил в израильской армии. С 1979 года живет в Германии. Играл в оркестрах Ленинградской филармонии, Израильского радио. В настоящее время работает в оркестре Ганноверской оперы. Автор романов «Прайс» (шорт-лист Букеровской премии – 1999, во французском переводе – «Апология бегства»), «Обмененные головы» (перевод на французский отмечен премией «Русофония»), «Бремен¬ские музыканты», «Суббота навсегда», «“Вий”, вокальный цикл Шуберта на слова Гоголя» (во французском переводе – «Шуберт в Киеве»), «Фашизм и наоборот» и др.
— В советские времена существовал миф о ленинградце — человеке высшей пробы, кого даже краем не коснулось всеобщее одичание. В эмиграцию вы уезжали из Питера; ваши родители ленинградцы?
 Леонид Гиршович с женой Сусанной. Тюбинген. 2004 год
Леонид Гиршович с женой Сусанной. Тюбинген. 2004 год— То есть предки со стороны отца были «поблагородней» материнских?
— О да. И тут можно заглянуть в глубь веков. В истории семьи мелькает какой-то финансист Гиршович в эпоху Речи Посполитой, проживавший в Польше при последнем короле Понятовском. Еще в архивах осталось свидетельство: некий Лейб Гиршович, подручный шляхтичей, якобы измывался над украинскими православными крестьянами.
 Семья Розенман (слева направо): прабабушка Мэрим (убита немцами), мама, дедушка Иосиф, тетя Циля (погибла при теракте в 1977 году в Петах-Тикве), бабушка Гита. Послевоенные годы
Семья Розенман (слева направо): прабабушка Мэрим (убита немцами), мама, дедушка Иосиф, тетя Циля (погибла при теракте в 1977 году в Петах-Тикве), бабушка Гита. Послевоенные годы— Родственники отца не были рады этому браку? Они ведь были ассимилированные евреи, глубоко укорененные в жизни образованного сословия?
— Для Гиршовичей женитьба моего отца была мезальянсом. Местечко они презирали. Они были неким собирательным «Самуилом Гольденбергом» подле такого же собирательного «Шмуля» — я имею в виду «Картинки с выставки» Мусоргского. Хотя до пастернаковской «жидобы» все же не опускались, слишком горделиво несли свое еврейское патрицианство. Нечто подобное происходило в 1920–1930-х годах в Германии, только в ином, адском контексте. Тогда «немцы иудейского вероисповедования», все эти духовные чада Мозеса Мендельсона, кляли дискредитировавшее их польское местечко, хлынувшее в большие немецкие города. Дело доходило до писем в компетентные нацистские органы: мол, мы — не они. Моя мать, когда сердилась на меня, говорила: ты такой же черствый, как все Гиршовичи.
 Бабушка Гита со сводной сестрой Хавой на месте массового убийства евреев в Народичах. 1950-е годы
Бабушка Гита со сводной сестрой Хавой на месте массового убийства евреев в Народичах. 1950-е годы— Кажется, Тувим сказал: я еврей не по крови, которая течет в моих жилах, а по крови, которая течет из моих жил. Мне неприятны эти слова — представляешь себе шойхета-гоя. Но они абсолютно справедливы: что ты еврей, узнаешь от других, пусть даже как угодно рано. Я не раз слышал — надо сказать, от москвичей: о своем еврействе они долго не подозревали, хотя само слово «еврей», неприличное, обидное, знали с детства. Я, выросший в Ленинграде, не очень себе представляю, как такое возможно. Сколько себя помню, я знал две вещи: что я мальчик, а не девочка, и что я еврей. Это, вероятно, усугублялось обрезанием, смысл которого, однако, открылся поздней, тем паче, что в детский сад я не ходил.
— Расскажите о вашем ленинградском детстве.
— Страшное было время. На коммунальной кухне мне говорили черт-те что. Но нянька простирала надо мной свои крыла. «Доча, — спрашивала она у мамы, — а грузины, они как явреи или еще хуже?» Нянька спала на полу у печки, я на диване под черным образком, окропляемый на ночь святой водой, родители — за буфетом. В их глазах набожность служила наилучшей рекомендацией. Атеизм — атрибут власти, отношение к которой было однозначным: не подходи, убьет. Мне еще нет пяти, но я все понимаю: мать уволили с работы (она вела скрипичный кружок). Антон Иванович, с которым отец много лет просидел за одним пультом в Ленинградской филармонии, говорит ему: «Моисей Ионович, если вам с семьей надо будет укрыться, рассчитывайте на меня» (светлая ему память, Антону Ивановичу Чернышенко, которого даже такой зверь, как Мравинский, побаивался). Все это обсуждалось при мне.
 Сусанна Шпак, студентка Вильнюсской консерватории. 1969 год
Сусанна Шпак, студентка Вильнюсской консерватории. 1969 год— Чем чаще нянька водила меня в церковь и чем больше мы с ней клали поклоны, тем сильней ощущал я свою инакость: на одном полюсе — старухи в платочках, свечки, батюшка, на другом — мои родители, дед с бабкой, не говоря уж о «дедушке реб Айзике», как надлежало называть прадеда. Он разгуливал по Ленинграду в картузе и лапсердаке. С его смертью — мне было двенадцать лет — Рош а-Шона и седер справлялись у деда Иосифа. «А-гит йон-тов, Иосенька-хайсл», — дразнился я, подражая бабушкиному голосу. Талес, тфилин, молитвенное бормотанье были для меня привычным зрелищем. «Гонимая нация, этим надо гордиться», — учила меня мать. («Б-женька меня любит», — сердце разрывалось слышать это от нее, запертой уже к тому времени в «Тальбии», иерусалимской психиатрической больнице.)
«Тш-ш! Не болтай! Помни, в какой стране ты живешь», — повторял всегда отец. Я нес безоглядную антисоветчину. Когда наш класс — я учился в десятилетке при консерватории — принимали в комсомол, я ухитрился увильнуть. На уговоры дома — дескать, не возьмут в консерваторию — сказал: «Это то же самое, что креститься». Уговоры сразу прекратились.
Много лет спустя я напишу в романе «Суббота навсегда» (кирпич в 800 страниц, который вряд ли кто-нибудь одолел, уже сам факт его напечатания из области чудес): «Еврейский народ всегда чтил в Б-ге Отца: “Израиль есть сын Мой, первенец Мой” (лирическая метафора “Песни песней” возникла много поздней, народ невестился). За право быть сыном Б-га Израиль готов платить всем, что принимается к оплате: благосостоянием, жизнью, честью, жизнью чад своих. Еврей — любимый сын, притом что вечно распинаем. Трепетное сыновнее благочестие породило особую диа¬лектику, где сочетание любви с мучительством именовалось “неисповедимостью путей”. А тут вдруг говорят: вот сын Божий, законный. И в доказательство: крестные муки, живым вернулся в лоно Авраамово. Т. е. народу по всей форме предъявлен его персонифицированный двойник, утверждающий, что он — оригинал. Признать и принять? А кто же тогда мы? Согласиться следовать вместе со всеми по терновому пути во спасение?»
 Перед марш-броском близ Рамаллы. 1974 год
Перед марш-броском близ Рамаллы. 1974 год— Я — профессиональный изгой в оценке своей профессии. Бесконечное репродуцирование одного и того же не смеет претендовать на право считаться творчеством. А коль скоро единственная сегодня живая музыка — это попса (то есть музыкальное опрощение до состояния одноклеточного), то тут и говорить не о чем. Вот-вот это громоздкое, со скрипом, почитание музыки двухсотлетней давности окончательно выдохнется. Европейская музыка, порожденная западной церковью, почила в бозе. «Битлз» воспринимается как Моцарт. Симптоматично, что игра на скрипке превратилась в дальневосточный промысел — японский, корейский и так далее. Лопнул еще один миф — о «еврейских скрипочках», если воспользоваться лексиконом моего детства.
Я не хочу повторяться, я об этом написал когда-то целый опус под названием «Чародеи со скрипками». К тому же в «Иностранной литературе» была напечатана моя статья, ее название говорит само за себя: «Об уличном музицировании как следствии высокопрофессионального обучения детей музыке».
Я зарабатываю на жизнь игрой в оркестре, но это не имеет прямого отношения к музыке, верней, к личной моей «омузыкаленности». Играть и слушать — разные вещи. Между исполнителем и слушателем разница такая же, как между тем, кто подает кушанье, и тем, кто его ест. В отличие от абсолютного большинства моих коллег, у меня потребность в слушании музыки. И опять же, в отличие от них, у меня нет потребности взять в руки инструмент, что называется, «для себя» (камерное домашнее музицирование и тому подобное). Просто у меня за плечами хорошая выучка при благодарной в плане скрипичности природе. «Ты должен хорошо играть, чтобы никогда не унижаться», — любила говорить моя мать.
 Совместное выступление с отцом в Бейт-Анаси (президентский дворец). Иерусалим. 1973 год
Совместное выступление с отцом в Бейт-Анаси (президентский дворец). Иерусалим. 1973 год— О карьере солиста, скрипичного лауреата ни я, ни мои родители никогда не помышляли. Шестнадцати лет я поступил в Московскую консерваторию, что, с одной стороны, указывало на серьезную скрипичную продвинутость, с другой стороны, было следствием неспособности сдать экзамен на аттестат зрелости. После девятого класса я перешел в училище, за год прошел курс училищных наук и уехал в Москву, на которую смотрел с истинно ленинградским высокомерием. Я пытался что-то писать, работа в хорошо оплачиваемом оркестре, выезжавшем за границу, должна была служить социальным прикрытием. В 1969 году я поступил в Ленинградскую филармонию к Темирканову, и тут выяснилось, что я — невыездной.
— Тогда вы стали думать об эмиграции?
— Победа в Шестидневной войне и поражение в Чехословакии придали диссидентству сионистское направление, причем напор был столь велик, что власть сочла за лучшее выпустить пар. Наше семейство дружно эмигрировало в Израиль. «Я рабов рожать не буду», — говорила моя жена Сусанна, выросшая в Литве, самой еврейской из прибалтийских республик. Рвалась из Союза и моя мать. Она была мотором нашей эмиграции, и Союз ей за это отплатил: травля, угроза ареста, допросы учеников (она преподавала в ленинградской ЦМШ) — все это подорвало ее психику.
— В ответ на вопрос о том, почему вы стали писать, вы сказали, что мечтали об этом с детства. Вы стали профессиональным писателем, в России вас печатают самые продвинутые издательства. Для писателя решение об эмиграции — вдвойне трудное, ведь он теряет язык.
— Завинченность на музыке — подчеркиваю, не на игре на скрипке, именно на музыке — парадоксальным образом ускорила мою эмиграцию как человека, пробующего себя в литературе. Отечественная либерально-«шестидесятническая» интеллигенция не то чтобы страдала атрофией музыкального чувства, но была чудовищно неразвита, она под гитару обращалась к Б-гу: «Зеленоглазый мой». Эта гитарно-водочная задушевность была тошнотворна. Синявский когда-то сказал, что у него стилистические несогласия с советской властью. Я, руководствуясь эстетическим чувством, мог бы как в отношении советского официоза, так и в отношении культурного «шестидесятничества» сказать: чума на оба ваши дома. Все равно, даже оставшись, я был бы изгоем – если не как еврей, то как сноб и чистоплюй.
— Скрипач в армии – это как?
— Шестилетняя жизнь в Израиле означала вперемешку работу в Иерусалимском оркестре, куда я сел ассистентом концертмейстера на десятый день по приезде, и службу в армии: сперва действительную, потом — ежегодные «сороковины». Б-г меня миловал, это было как раз между двумя войнами, Судного дня и первой ливанской, так что мне не довелось стрелять в людей. Вообще, ЦАХАЛ — становой хребет страны, плавильный котел для консолидации ее разномастного, чтоб не сказать разноплеменного, населения. По моему глубокому убеждению, главная опасность для Израиля — в отсутствии опасности. Поэтому нет великой беды в том, что Европа, а с нею и «все миролюбивое человечество» признает право Израиля на существование исключительно на условиях, гарантирующих его уничтожение.
 Дети Мириам и Иосиф. Ганновер. 2008 год
Дети Мириам и Иосиф. Ганновер. 2008 год— Я беру в детях реванш. Чувство неполноценности, с которым я прожил жизнь, — это оборотная сторона моего высокомерия, это чувство я избываю в них. Отсюда их английский, не просто свободный, а практически родной, лишенный иностранного акцента. Это было дорогое удовольствие как в прямом, так и в переносном смысле слова. Отсюда классические языки, в случае Иосифа — в университетском объеме. Мириам выбрала в гимназии профилирующим греческий, а не латынь, что сильно облегчает ей жизнь в университете. Что до их русскоязычия, то русский — это их идиш, это язык дома, семьи. Они так и продолжают говорить между собой по-русски. Насколько чисто? Мне трудно сказать, я привык к их голосам и не слышу в их русском ни немецкого акцента, ни немецких интонаций, скорей уж еврейские — мне тоже неоднократно говорилось, что мой русский отдает пятым пунктом.
— Многие эмигранты жалуются: вырастая, дети становятся чужими. Вам с женой удалось этого избежать.
— В детстве они пользовались абсолютным доверием, абсолютной свободой, много большей, чем их сверстники. Но зато в доме царил тотальный запрет на поп-музыку, комиксы и распространенный в эмиграции способ общения детей с родителями: они с тобой по-немецки (по-английски, на иврите), а ты в ответ по-русски. В придачу к этому мы ежедневно занимались чтением и письмом. На вопрос, в какой мере они ощущают себя евреями, я могу лишь сказать: в огромной. Не в смысле того консенсуса, который сложился в ФРГ между еврейской и немецкой сторонами: «Вы нам должны» — «Мы вам должны». Хотя совсем не быть объектом политкорректности в современной Германии еврею невозможно, больно уж велик соблазн пользоваться ею. Это печально, потому что притупляет зубы.
— Ваш сын недавно предпринял интересное путешествие, в духе немецких романтиков. Расскажите об этом.
— В прошлом году Иосиф совершил род паломничества: от Бранденбургских ворот к Стене Плача. Он хотел продемонстрировать, что сделать это возможно без единого цента в кармане, что в большинстве своем люди исполнены доброй воли и его не оставят без крова и пищи. Приключение было достаточно опасным. Из Тюбингена приехала Мириам, и мы все втроем, прижавшись друг к дружке, ждали конца этой авантюры. Напряжение достигло пика, когда пришла эсэмэска: «I am in Mordor». Это значило, что он в Сирии, — он, который до своего совершеннолетия был гражданином Израиля. И вдруг эсэмэска: «В Израиле жарко»...
Конечно, каждый желает счастья своим детям. Но, как писал Аркадий Гайдар, что такое счастье, каждый понимает по-своему.