В конце 2009 года на книжной ярмарке Non/fiction я купила роман «Кофемолка» Михаила Идова и ни секунды не пожалела, что среди моря соблазнов выбрала именно эту книгу. Читала взахлеб, почти физически ощущая звуки и запахи нью-йоркских улиц и кафе. Проглотив книгу за три дня, я тут же бросилась искать в Интернете информацию об авторе. Но, набрав в поисковике «Михаил Идов», нашла лишь скупые строчки биографии и пару интервью.
Михаил, в интернете о вас, прямо скажем, негусто. В основном ссылки на книжные магазины, рецензии на роман «Кофемолка»…
Да, и первый результат, который на мое имя выдает вам «Яндекс», — рекламная ссылка на «Букник»: «"Кофемолка" — роман о русском еврее в Нью Йорке». Вы не знаете, как мне это изменить? (Смеется.)

Да, хотя книга была уже готова, когда он стал эмигрантом из бывшего Советского Союза. И когда меня попросили сделать его русским, я очень долго боролся с собой. Но поскольку это первая моя книга, я решил, что буду исполнять все пожелания редактора. Тем более, что она работала с Майклом Чабоном и с другими авторами, которых я очень уважаю. За три дня я переписал 10 страниц, которые сделали моего героя русским. Для меня это самый наносной и ни к чему не обязывающий элемент книжки. Сейчас жалею, что пошел на это.
В Америке, насколько я знаю, «русскими» называют всех, для кого русский язык родной.
Вы знаете, в Нью-Йорке многие удивлялись, когда я говорил, что русское видение себя — это блондин с голубыми глазами. Это им совершенно непонятно, потому что они такого русского никогда в жизни не видели.
То есть для них русский — это выходец из бывшего СССР, и неважно, еврей он, украинец или грузин.
Да, причем, эмигрант первого поколения. Мы очень быстро и охотно сбрасываем нашу идентификацию, потому что она завязана в первую очередь на родном языке. Исчезает язык, исчезает и она.
Когда-то на вопрос журналиста, считает ли он себя русским или американцем, Иосиф Бродский ответил: «Я еврей, русский поэт и английский эссеист». А как бы вы определили себя?

В Интернете я вычитала, что роман «Кофемолка» возник из очерка. Это так?
Что-то вроде того. Хотя, точнее, это попытка соединить роман, который я хотел написать, с романом, которому была гарантирована публикация. Я написал очерк про кафе в Нью-Йорке, и этим текстом заинтересовались литературные агенты. Им очень хотелось, чтобы я превратил его в non-fiction — во что-то вроде мемуаров или инструкции для тех, кто хочет открыть свой малый бизнес, но у меня не было ни малейшего желания этим заниматься. Зато были наброски для сатирического романа про Нью-Йорк. И агентов, звонивших мне по поводу написания книги non-fiction, я спрашивал: «А что вы скажете насчет романа, в котором сюжетная линия присутствует, но это не мемуары и не non-fiction?». Реакция была одна и та же — все как один бросали трубку. Потому что романы, подобные «Кофемолке», разумеется, расходятся тиражом на несколько порядков меньшим, нежели non-fiction. Америка обожает мемуары, обожает правдивые истории. Почему — это отдельная тема, но такова реальность. Если сказать людям, что этого не было на самом деле, тираж от 100 тысяч может упасть до 10. Но мне повезло — одного агента это заинтриговало. Она была единственная, кто не упал в обморок и не бросил трубку от того, что я сказал: «Давайте напишем роман в духе Ивлина Во». (После таких слов агент понимает, что имеет дело с претенциозным персонажем, который собирается самовыражаться за его счет, а не хорошим работником, который сможет написать нормальную продаваемую книжку.) Причем, я считаю, мне повезло вдвойне, потому что это оказалась Аманда Урбан (Amanda Urban), одна из самых знаменитых литературных агентов. Но тогда я этого не знал, потому что в этом мире не вращался. Я написал пробные 15 страниц; прочитав их, Аманда решила, что с этим можно работать.
В очерке, на который обратили внимание агенты, речь шла о кафе «Троцкий», открытое вами в Нью-Йорке. Ваш опыт оказался настолько печальным, как вы описываете?
Ну конечно нет, поэтому я не люблю, когда проводят параллели между романом и моей жизнью. Что касается моего реального опыта с кафе «Троцкий», то он был лишен каких-либо травм, драм и прочего. Мы просто начали с определенного количества денег и с самого начала знали, сколько можем потратить, не влезая в долги. Когда эти деньги закончились, мы закрыли кафе. Из этой реальной истории не вышло бы ни романа, ни рассказа, ни пьесы. Ни даже монографии о малом предпринимательстве. Это был просто эксперимент, который показал мне жизнь кафе с другой стороны прилавка. И в этом смысле он был полезен. Но не следует рассматривать мой роман как автобиографическую историю. Разумеется, каждый дебютный роман вдохновлен каким-то личным опытом. И «Кофемолка» страдает от этого не больше и не меньше, чем любой другой первый роман. Мне кажется, довольно глупо сравнивать события, описанные в романе, с теми, что были в жизни автора произведения.
Но это абсолютно естественно, когда автор переносит часть своего внешнего облика, черт характера, фактов биографии на героев.
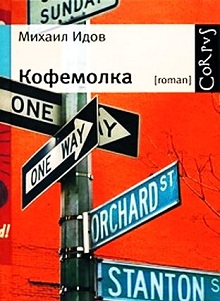
Я понимаю, что упростил задачу для читателя, дав своему герою русское происхождение. Это было сделано по просьбе редактора, и не проходит ни дня, чтобы я об этом не сожалел. Тем самым я просто усилил заблуждение, что главный герой — это я, что все это произошло со мной, что я просто изменил все фамилии на две буквы, как у Довлатова, и успокоился. Это не так. В первом варианте у моего героя не было русского происхождения.
В современной Америке брак между еврейскими мальчиками и китайскими девочками — определенный тренд. Ваши главные герои тоже являют пример еврейско-азиатского симбиоза.
Сразу хочу сказать, что моя жена не китаянка. Но на самом деле это явление очень популярно в литературной среде — еврейские мальчики и азиатские девочки. И я лично знаю такие пары. Это пока мало изученный феномен, но он все-таки существует.
Вы где-то сказали, что второй ваш роман будет автобиографическим?
Уже нет. Потому что я занимаюсь сейчас двумя проектами non-fiction, оба имеют отношение к России. Одна книга — о предметах советского дизайна 60-70-х годов. Другая — сборник эссе о Москве и москвичах. Первая выйдет в 2011 году, вторая — в 2012-м. Я забросил все планы, которые у меня были, и возродил одну старую идею, которая, слава богу, никак не связана с моей автобиографией. Я совершенно не уважаю преждевременных мемуарщиков. Мой самый нелюбимый вид литератора — это человек, который прямо с порога начинает писать о собственной жизни. Вот, например, какой-то Огустин Берроуз написал шесть книг мемуаров. Он молодой человек! Мне этот жанр кажется абсурдным, когда в нем подвизаются люди, не имеющие за плечами серьезной прожитой в других жанрах жизни. Поэтому я не хочу им уподобляться. Так что никаких автобиографий до глубокой старости.
Следующую книжку вы будете писать по-английски?
Я по-русски ничего кроме журналистики не пишу. «Кофемолка» — это все-таки перевод с английского на русский. Я бы не рискнул писать с нуля, ощущал бы себя голым и незащищенным. Потому что первая же рецензия, в которой намекнули бы, что я подзабыл русский язык, — а это, в общем-то, неизбежно, ведь люди позволяют биографии автора влиять на мнение о его творчестве, — меня бы просто уничтожила, я бы год с кровати не вставал. Моего сегодняшнего русского не хватает на литературу — я действительно его подзабыл. А в данном случае, я, по крайней мере, могу сказать: «Оригинал-то все-таки по-английски». (В английском варианте роман называется Ground up – Е.П.)
Когда вы приехали в Америку, у вас был хороший английский?
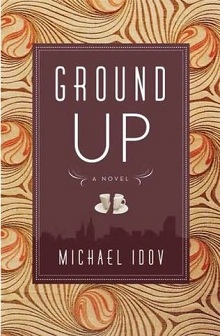
А ваши интересы как-то изменились с переездом в Америку?
В Риге я был одновременно и интеллектуалом, и хулиганом. Мне было 16 лет, когда моя семья переехала в Соединенные Штаты. В первый год в Америке я был крайне антисоциален, мне там очень не нравилось, и в результате я прочел много книг. Если бы у меня было много друзей, я, конечно, столько не прочел бы. То же самое произошло в первый год моей учебы в Мичиганском университете — я не сразу влился в коллектив, был там младше всех. Кроме того в первый год учебы на кинофакультете я общался в основном с преподавателями, а не со студентами. Из-за отсутствия друзей я пересмотрел огромное количество фильмов из университетской фильмотеки, они были на лазерных дисках — это такие огромные диски размером с виниловые. Так что моя антисоциальность сделала меня немножко умнее и немножко образованней.
Когда вы выбирали университет, вы знали, что в Мичиганском университете преподавал Бродский?
Да, конечно, но мы с ним разминулись лет на пять. Там вообще был очень сильный факультет славистики, к которому я не имел никакого отношения. Но это стопроцентно повлияло на выбор университета.
А на выбор факультета что повлияло?
Я хотел заниматься кино и до сих пор хочу. Я писал сценарии, собирался стать кинокритиком. Пределом моих мечтаний было рецензировать фильмы. Я боготворил отдельных кинокритиков, ездил в Нью-Йорк в паломничество к Оуэну Глайберману из Entertainment Weekly. Я писал рецензии в университетский журнал, в университетскую газету. Мне очень нравилась классическая теория кино — Базен, Эйзенштейн и т.д. Современная теория мне неинтересна.
Сейчас вы смотрите кино с позиций критика?
Меньше, сейчас я не успеваю за многим следить. Если раньше я смотрел практически все, что выходило на экраны, 5-6 дней в неделю, то сейчас я смотрю только то, что проходит некий фильтр до меня — это рекомендации друзей и знакомых, мнению которых я доверяю.
Если я правильно поняла, в университете вы изучали драматургию? или кинодраматургию?
Я писал пьесы. Это было и сценическое искусство, и драматургия. Хотя я не очень правильный драматург — терпеть не могу театр. Пьесы для меня существуют только на бумаге. Я просто очень не люблю актеров.
**А когда вы пишете прозу, вы представляете актеров, которые могли бы сыграть роль того или иного персонажа?
Конечно, представляю. Я просто не люблю в театр ходить.
Навыки, полученные на курсе драматургии, пригодились при написании романа?
Знаете, я начал писать сценарии и пьесы по очень простой причине — моего английского не хватало на качественную прозу. А пьеса мне показалась идеальным жанром, потому что все, что нужно было делать, — это подражать чужой речи, а stage directions, ремарки, пишутся нарочито безликим языком. Таким образом, я мог самовыражаться, не рискуя при этом опозориться. Как только моего английского стало хватать на нормальную прозу, я забросил пьесы.
Роман Ground Up вышел сначала в Америке на английском, и вскоре после этого появился авторский перевод на русский. «Кофемолка» довольно быстро пересекла океан. Как это произошло?
Интернет помог. Один из читателей ЖЖ обратил внимание книжного критика Анны Наринской на оригинал романа. Она прочла его на английском, после чего передала Варе Горностаевой в издательство «Корпус», где он, собственно, и вышел на русском.
В предисловии к роману вы пишете, что были определенные проблемы с переводом.
Да, я все-таки не очень доволен переводом. Читатели уже поймали ляпы, неточности и не вполне русские выражения. Понятно, что люди придираются, но придираются по делу. Разумеется, тех читателей, у которых есть выбор, я умоляю читать по-английски. Но по-русски книга живет своей отдельной жизнью. И это, наверное, тоже хорошо.
**Какая, на ваш взгляд, самая распространенная трудность перевода? Непереводимость слова «тоска»?
У меня в книжке есть это. Каждая культура считает, что у нее есть непереводимое слово, означающее тоску. Французы считают, что tristesse нельзя перевести ни на какой язык, американцы считают, что слово blues непереводимо, бразильцы думают то же про saudade. Но они все означают тоску. Каждая народность хочет владеть своей собственной тоской.
Ваши родители читали «Кофемолку»?
Да.
На каком языке?
Надеюсь, что на обоих.
Что они сказали, им понравилось?
Они довольно сдержанно говорили на эту тему. Знаете, режиссер М. Найт Шьямалан рассказывал такую историю. Когда после выхода «Шестого чувства» его портрет поставили на обложку Newsweek, он отправил этот номер журнала своим строгим индийским родителям. Позвонил отец и спросил: «Почему не Time?» Ко мне родители приблизительно так же относятся.
Михаил, а на каком языке вы думаете?
Мне часто задают этот вопрос. Вы знаете, по-моему, люди вообще думают не словами, а сгустками образов. С женой мы ругаемся исключительно по-английски. Наверное, потому что это придает какую-то логичную стройность ругани, она становится более структурированной и менее обидной.
**Попадая в нью-йоркскую эмигрантскую среду, я лично испытываю дискомфорт от того русского языка, который там звучит. Бесконечные вкрапления английских слов, без которых вполне можно обойтись. «Калидж», «апойнтмент» и так далее.
Ну, во-первых, я не имею никакого отношения к нью-йоркской эмигрантской среде. А во-вторых, вы вообще русскую речь в Москве слышали? В ней англицизмов гораздо больше, чем в американской русской речи. В приведенном вами примере я не вижу ничего удивительного. Колледж и университет — разные вещи, и нет ничего зазорного в том, чтобы использовать здесь английское слово. Другое дело — английские слова с русскими окончаниями; это я ненавижу, и это, конечно, омерзительно.
Вам удалось избежать эмигрантской среды?
Да. Это меня, может быть, и спасло. Потому что мы попали в Кливленд, на Средний Запад, а не в Нью-Йорк в русско-эмигрантскую среду, в которой можно прожить 10 лет, особенно не стараясь выучить английский. Мне нравится, что в Нью-Йорк я приехал сам, после окончания университета, и по собственному желанию. У меня было ощущение, что я заслужил Нью-Йорк, а не свалился в этот город по воле какого-нибудь ХИАСа.
Вы не просто живете в Нью-Йорке, но еще и работаете в New York Magazine. Как вы попали в это весьма престижное издание?
Это довольно сказочная история. Я написал статью в он-лайн журнал Pitchfork и меня попросили написать в журнал Slate. После второй статьи в Slate меня попросили написать в New York Magazine. Одну статью, вторую… и на третьей меня пригласили в штат. И все. Никаких связей, знакомств, «Йельской мафии» и т.д.
Как коллеги по New York Magazine отреагировали на успех вашей книги?
Большинство моих коллег на третьей или на четвертой книжке сидят. Правда, мало кто из них пишет романы — в основном non-fiction. Но любой человек в журнальном мире рано или поздно сталкивается с предложением развить ту или иную статью в книгу. Кроме того, в New York Magazine я даже не третий и не четвертый человек, у кого права на книгу купил НВО. Так что я там разве что за пивом для старших не бегаю.














