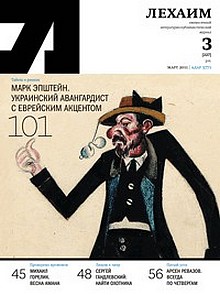
Арсен Ревазов радует читателей географическими открытиями. Совершёнными, впрочем, не им, а еврейскими индейцами (индейскими еврейцами?). И не сейчас, а несколько веков, если не тысячелетий назад. Именно тогда, по версии Ревазова, одно из потерянных колен, уходя в рассеяние, свернуло не в Северную Африку, а оттуда в Европу, как прочие, а прошагало всю Азию до Индонезии, там пересело в лодки и добралось до Южной Америки. По пути им пришлось заложить небольшой вираж, чтобы открыть Антарктиду. И теперь они из презрения к цивилизации живут в непроходимых амазонских болотах, а береговую линию Антарктиды изображают на барабанах в качестве национального орнамента.

искусства, а Рухомовский стал работать на барона Ротшильда и
параллельно сочинять мемуары. Немудрено, что они полны оптимизма.
Разумеется, дышит позитивом материал Михаила Горелика. У него и тема соответствующая: пуримшпиль, да еще в Гарварде. И не просто пуримшпиль, а опера-пуримшпиль, поставленная семейным театром Дэвида Басса — профессора химии, по совместительству композитора-любителя. Во славу Басса и его «Весны Амана» Горелик тоже сочиняет нечто весело-бравурное — оперу не оперу, эссе не эссе, фантазию в манере Джойса, с захлебывающимся синтаксисом, с ветвящимися предложениями на две журнальные колонки.
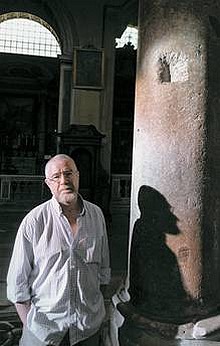
Повод для оптимизма находится у авторов мартовского «Лехаима» даже в самых, казалось бы, нейтральных случаях. Например, опрашивает Афанасий Мамедов четырех весьма квалифицированных собеседников — Михаила Крутикова, Александру Полян, Велвла Чернина и Дмитрия Якиревича — по поводу 175-й годовщины со дня рождения классика еврейской литературы Менделе Мойхер-Сфорима, он же Шолом-Яков Абрамович, он же Менделе-Книгоноша. Но и в этом академическом разговоре проскальзывают ликующие нотки. Особенно когда поэт и переводчик Дмитрий Якиревич благодарит «Лехаим» за то, что журнал спас еврейский народ от «национального позора»: ведь юбилей великого прозаика не заметили «ни в Израиле, ни в многочисленных еврейских конгрессах, ваадах, хеседах и так далее», а «русские израильтяне» и вовсе реагируют на упоминание о Мойхер-Сфориме не без раздражения: «такая труднопроизносимая фамилия», «этот ваш писатель», «произносите, пожалуйста, эту фамилию более внятно».
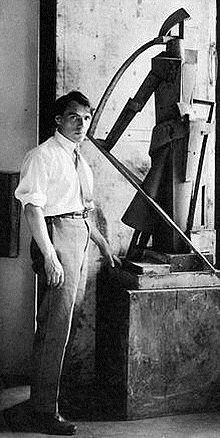
Михаил Эдельштейн в статье «Антиантисемит» на примере русско-американо-еврейского публициста Семена Резника разбирается с феноменом профессиональных борцов с антисемитизмом. Общий пафос материала вполне передают приводимые Эдельштейном слова Михаила Лотмана, предлагающего рассматривать антисемитизм как «объект исследования, а не борьбы». Иначе научные методы подменяются приемами не слишком добросовестной журналистики, профессиональные аргументы — квазиэтическими доводами, объективность — предвзятостью. Есть два противоположных подхода к историческому факту — историзация и актуализация, — и пока что в «антисемитоведении», что у «патриотов», что у их противников, явно торжествует второй «с его установкой на осовременивание истории, выискивание в ней параллелей с настоящим». Между тем нет никаких «уроков истории», забудьте эту газетную пошлость. Перестаньте полемизировать с аудиторией «Нашего современника», пусть и дальше рассматривают шоколадные фантики на просвет в поисках законспирированных магендавидов. История — это узор, который ткут совместными усилиями евреи и антисемиты, Шмаков и Бейлис, Шульгин и Грузенберг, «и куда важнее (не говоря уже о том, что много интереснее) разбираться в мотивах их поступков, нежели продолжать по сотому кругу спорить, кто более матери-истории ценен».
Лучшие материалы текущего номера и журнального архива выкладываются для обсуждения в блоге lechaim-journal.livejournal.com.












