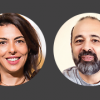Лев Лосев с Иосифом Бродским. Комарово, март 1971
Лев Лосев с Иосифом Бродским. Комарово, март 1971***
Моя встреча с Ахматовой. Мне лет одиннадцать-двенадцать. В приемной лечебного отдела литфонда, тогда еще в шереметевском особняке, окнами на Неву, мы с матерью сидим, ожидая очереди, ближе к двери. «Только сразу не смотри, — шепчет мама, — у окна Ахматова». Скашиваю глаза, вижу черный профиль, не очень чистое окно с толстым зеркальным стеклом, грязноватый лед Невы, длинную горизонталь Военно-медицинской академии на другом берегу.
Через год я умирал там, в Академии, от запущенного дифтерита. Не умер (вычеркнуть — самоочевидно). Вышел через два месяца на ватных ногах. Словно в виде осложнения после болезни научился говорить букву «р». Сразу после школы мы отправились с матерью в Крым. После быстрого и мало запомнившегося путешествия с группой — Симферополь, какие-то пыльные археологические ямы, Алушта, Гурзуф — приехали в Ялту.
Ялта прекрасна, как все города, построенные амфитеатром над морским заливом, но в моих воспоминаниях она даже лучше Сан-Франциско или Неаполя. Те тоже хороши, но великоваты. Тринадцатилетнему человеку не исходить все их улицы и переулки, не полюбить их так, как я полюбил в тот год Ялту. Мне особенно нравились узкие улочки там, где кончается эспланада, возле порта. Я написал: «Узкие улочки», — но на самом деле я не помню, были ли улочки или какой-то один квартал детской фантазией преображался в «узкие улочки возле порта». Несло кухонным чадом из столовой. «Припортовые кабачки, — шептал я, — припортовые кабачки…» Нравилось притворяться, что я не знаю, что откроется в конце квартала. Вот я иду по своим делам, погруженный в свои мысли, из дверей таверны пахнет едой и вином, случайно поднимаю взгляд: «Ах, море!»
<...>
Мама повела меня в дом Чехова. Оказалось, что мы туда выбрались 15 июля, в день смерти писателя, и по этому поводу к экскурсантам вышли и сфотографировались с ними две старушки: Мария Павловна, любимая сестра Антона Павловича, и Ольга Леонардовна Книппер, его вдова. Теперь у меня в офисе висит фотография: слева Мария Павловна в темно-синем платье в горошек, справа Ольга Леонардовна, между ними их гостья московская актриса Бабанова, а совсем справа, из-за кромки фотографии к плечу Книппер тянется моя толстощекая, очкастая физиономия. Фотографией на стене я хочу намекнуть своим студентам на интимный характер моих отношений с преподаваемой литературой.
***
 Лев Лосев в пионерском лагере. Командировка от журнала «Костер», 1960-е гг.
Лев Лосев в пионерском лагере. Командировка от журнала «Костер», 1960-е гг.Правильные дома должны быть четырех-пятиэтажными, с лепными украшениями на фасаде, с колоннами, полуколоннами, кариатидами и львиными мордами. Земля, не покрытая асфальтом, диабазовыми торцами, гранитными или известняковыми плитами, выглядит неряшливо. Если вода, трава, кусты и деревья не очерчены чугунными и гранитными оградами, это уже не город, а деревня. Туда мы ездим летом на дачу. На даче много необычного и приятного. Например, свежий воздух — прохладный ветерок с непонятными, волнующими запахами. На даче гулять ходят не на часок-другой, а с утра до вечера. Но жить надо, конечно же, в городе. На даче нет ничего таинственно-прекрасного, а в городе на каждом шагу.
Примерно так читались бы мои младенческие ощущения, если бы превратились в мысли. Предопределенное местом рождения горожанство, петербуржство к середине жизни стало меня тяготить, но я это не сразу понял. Вторую половину жизни я прожил на свежем воздухе, в Америке. Я не скучаю по городам. Я живу в деревянном доме. Трава, цветы, можжевеловые кусты и яблони перед моим домом ничем не отгорожены от дороги, а за домом — от леса и крутого обрыва над Норковым ручьем. Из леса в наш сад приходят оленихи с оленятами, иногда небольшой черный медведь. С кладбища неподалеку прибегает лиса. А сурки, еноты, белки и, увы, скунсы живут прямо на нашем участке. Вот только что по блесткому мартовскому насту перед моим окном прошли два упитанных рябчика, они крупнее и пестрее, чем те, на которых я охотился на Сахалине. За американские годы я повидал много городов, неделями, а где и месяцами, жил в Нью-Йорке, Риме, Париже, Кельне, Амстердаме, Венеции, Лондоне. Я полюбил эти города. Только два вызывают унылые воспоминания — Москва и Пекин. Если бы я не отучил себя фантазировать, я бы мог помечтать о квартире — просто pied-a-terre: комната, кухня, балкон — в Барселоне или, допустим, в Мантуе. Но дома я себя чувствую только здесь, в своем деревянном американском жилье на обрыве над ручьем. Есть, однако, область снов, полупросонья, откуда неуклонно выплывают видения мокрых желтых листьев у чугунной ограды, неба всегда пасмурного сквозь толстое смутное стекло стеклянной крыши, гранитных ступеней, уходящих под воду. Я не слезлив, но, застигнутый врасплох случайными строчками: «Помнишь ли труб заунывные звуки, брызги дождя, полусвет, полутьму..» или «.. только в мутном пролете вокзала мимолетная люстра зажглась…», — могу ощутить жар в заглазье.
Кристалл, из которого начинает разрастаться человеческая личность, родной дом — с четырьмя стенами и очагом, но у меня вместо него несколько городских кварталов между Невским, Невой и Фонтанкой и первые запомнившиеся интерьеры. Среди них, наравне с нашим жильем, присутствуют Пассаж, Дом книги, кафе «Норд» в подвале и, особенно, библиотека и гостиные Шереметевского особняка (Дома писателей). Когда я услышал, как сожгли и разграбили Дом писателей, я испытал то чувство, которое в плохой прозе описывается словами «что-то во мне оборвалось»: вот и все, и захотел бы вернуться, да некуда.
Первые десять лет жизни прошли в переездах, переменах жилья. Вроде бы когда мама была на сносях, Союз писателей обещал молодой литературной чете комнату, но к моему рождению 15 июня 37-го года комната не подоспела, и нас поселили в «Европейской» гостинице. Жили недели две в буржуазной гостиничной роскоши. Отец кормил жену гречневой кашей с творогом — приносил из дешевой диетической столовой на Невском. Потом была какая-то комната в египетском доме на Каляева. Некоторое время жили в писательском доме отдыха в Детском Селе. Кажется, еще у маминой тетки на Гражданской (б. Мещанской). Летом 39-го года на даче в Суйде. Но мои воспоминания начинаются только после этого, с двухлетнего возраста, уже на канале Грибоедова. Говорили, что огромный, на целый квартал, дом был построен в XVIII веке для певчих дворцовой церкви, но не могло же там быть столько певчих! В 1934 году надстроили два этажа, четвертый и пятый, с квартирами относительно благоустроенными, для ленинградских писателей. Так потом и говорилось: «живет в надстройке». Нам дали квартиру не в надстройке, а на третьем этаже. Уборная была для жильцов этажа общая на лестничной площадке, запиралась она от случайных посетителей на висячий замок. Среди стишков в Красной Тетради был такой, вписанный Глебом Чайкиным:
ЛИФШИЦ
Славен от края и до края,
Он жил надменен и могуч,
Эгоистично запирая
Свою уборную на ключ.
Что ж, Чайкин лестницу его
Обделал точно игого.
Метонимическое «и-го-го» тогда было понятно. Легковые извозчики исчезли за несколько лет до моего рождения, но гужевой транспорт был еще нередок на ленинградских улицах и, соответственно, лошадиные яблоки. Там же, в Красной Тетради, записано, что меня привели в «Норд», я увидел на соседнем столике бриош и закричал: «Мама, смотри, булка похожа на лошадиные какашки!»
Наша квартира была прежде одной комнатой, позднее разделенной пополам. В передней полукомнате всегда горело электричество. Был там обеденный стол, и, кажется, там спала на раскладушке домработница. Из полумрака полупамяти отчетливо выплывает только большое мягкое кресло, обитое бежевым дерматином, с которого я сладострастно облупливал трескавшуюся краску. Еще доставляло наслаждение запускать руку между пружинным сиденьем и подлокотником и нашаривать в тесноте завалившийся туда мусор. Сам нарочно совал конфетные бумажки, двухконечный сине-красный карандаш, оловянного солдатика. Одно из самых ранних воспоминаний об отце: я сижу в любимом кресле, он возвращается домой и, обводя глазами комнату, говорит: «Где же Лешка? где же мой сын? куда он подевался?», делает вид, что садится в кресло, на меня. Я понимаю, что это игра, но, все равно, тревожно: где я?
***
 Лев Лосев в Охе, на севере острова Сахалин, 1960
Лев Лосев в Охе, на севере острова Сахалин, 1960Война еще шла, и я, рисуя или так — мечтая, с увлечением придумывал способы, как бы убить как можно больше немцев. Но пленные немцы — они работали в нашем дворе, как и во многих полуразрушенных ленинградских домах, — были почему-то совсем другое дело. Они не вызывали враждебного чувства, только острое любопытство. Вот что: они были иностранцы. Иностранцы же принадлежали к прекрасному книжному миру так же, как и старинные люди. Это низкопоклонство перед иностранцами началось очень рано. Я даже не совсем понимаю, откуда оно взялось: ведь когда в Омске я, стесняясь и с восторгом, глядел на эстонца Энна и его жену Агнес, я еще и книжек не читал. Только раз я видел иностранца чудеснее эстонцев и пленных немцев — негра на Невском.
Но пленных немцев, как ни интриговали они меня, я стеснялся и отворачивался, убегал, когда они что-то кричали мне, смеясь.
Однажды вечером я сидел дома с тетей Нелли. В дверь позвонили. Я открыл и увидел пленного немца. Он кланялся и почтительно просил: «Вет- шо… ветшо…» Не понимаю, как уж я догадался, что он пытается сказать «ведро», имея в виду кастрюлю. Чего-то надо было немцам сварить на костерке. Пока я обмирал от застенчивости, выскочила тетя Нелли и замахала на немца непарализованной рукой: «Вон, вон убирайся…» Она прямо клокотала от злобы. Всего два года назад она видела медленную агонию своих близких, сама умирала мучительной голодной смертью, какое уж тут «ветшо».
А папа как-то собрал еды в пакет и сказал: «Ну-ка, отнеси это пленным». Помню в основном свое дикое смущение, когда я приблизился к кружку перекуривающих фрицев и пробормотал: «Айн херр просил передать…» Потом я пообвык. Кроме папы, меня посылали к немцам с едой Шварцы, Евгений Львович и Екатерина Ивановна. Все же я никогда не задерживался, чтобы поговорить с немцами.
Пленных немцев еще долго, до начала 50-х годов, можно было увидеть на строительных площадках Ленинграда. Отстроенные ими дома считались особенно качественными и ценились при обмене квартир. Однажды по Ленинграду пронесся слух, что в зоопарк привезли дикую женщину-людоедку, «четыре метра ростом, с Курильских островов». Такие фантастические слухи время от времени вспыхивают в городской среде. И хотя проще простого было сходить в зоопарк и убедиться, что никаких людоедок там нет, предпочитали верить и пересказывать. Я тоже, хотя и знал, что вранье, с увлечением участвовал в разговоре про людоедку и в порыве внезапного вдохновения сказал приятелям-четвероклассникам: «А кормят ее пленными немцами». Через день я услышал, как наша соседка Евгения Григорьевна говорит маме на кухне: «Одна дама говорила в очереди, что людоедка питается пленными немцами». Евгения Григорьевна говорила, на всякий случай усмехаясь, но видно было, что верить даме ей хочется.<...>
***
 Лев Лосев в должности заведующего промышленным отделом газеты «Охинский нефтяник», Сахалин, 1960
Лев Лосев в должности заведующего промышленным отделом газеты «Охинский нефтяник», Сахалин, 1960Я пишу это 5 марта 2003 года. Пятьдесят лет назад. Возбуждение от необычности происходящего. Музыка и патетические речи по радио. Заплаканные лица на улице. Занятия в школе отменили, но домой идти не велено. Все слоняются с мрачным видом, говорят вполголоса. В актовом зале учителей и старшеклассников по очереди выстраивают в почетный караул. Это выглядит так: в конце зала на деревянной тумбе, обтянутой кумачом и обвитой черной лентой, тяжелый гипсовый бюст Вождя. Мы стоим в две шеренги человек по шесть лицом друг к другу, образуя как бы коридор, ведущий к бюсту на тумбе. На правом рукаве у каждого красная повязка с черной каймой. Стоять надо минут десять. Мучаюсь я невероятно, боюсь: а вдруг лицо неконтролируемо расплывется в глупую улыбку. Мне совсем не хочется улыбаться, хочется скорбеть, но а вдруг? Чем больше я об этом думаю, тем сильнее приходится напрягать губы, стискивать зубы, морщить лоб, чтобы предотвратить катастрофу — не осклабиться.
Желание испытать скорбь было. Двумя днями раньше, когда утром я собирался в школу и радио прервало передачи для сообщения о болезни Иосифа (глубокая пауза) Виссарионовича (глубокая пауза) Сталина, у меня даже мелкие слезинки вылезли от волнения. Волнение было сродни тому, какое испытал в семь лет, когда мама завела со мной разговор о разводе с папой. Только теперь мне было без малого шестнадцать. «Вот оно, — думал я, — начинается…» Что начинается — не знал. Что-то новое, великое и ужасное.
Лицо Сталина, как оно изображалось художниками и скульпторами, а особенно в профиль на медалях, было какое-то онтологическое лицо. Не красивое, не характерное, а изначальное, лицо-как-оно-есть. Смотреть на него было приятно, как на четко вычерченное геометрическое тело — куб, конус, пирамиду. Кинохроника, где Сталина показывали не так уж часто, иногда вызывала смутное беспокойство: даже снятый искусными операторами Сталин был не совсем похож на свое медальное лицо.
В тяжелые годы из разговоров не слишком таившихся взрослых я знал, что происходит много несправедливого, скверного: обижают любимого писателя Зощенко и других хороших писателей, в том числе папу и маму. Потом многие люди моего поколения говорили, что они знать ничего не знали про лагеря и ужасы ежовщины, я — знал. Слова «тридцать седьмой год» у меня ассоциировались не с моим появлением на свет, а с рассказами мамы о том, как Боря Семенов боялся ночевать дома после того, как забрали его друга Матвея Усаса, ночевал у нас. Про других исчезавших в те дни — Заболоцкого, Введенского, Бориса Корнилова. Кстати, подаренную ей Корниловым («1935 31 VIII») книжку она не уничтожила — не по бесстрашию, думаю, а по беспечности. (Вот я достаю ее с полки, обложка запятнана красным, и я припоминаю мамин рассказ: Боря Семенов затащил ее в пивную, там они встретили пьяного Корнилова, он стал открывать пиво, порезался, заляпал книжку кровью.) Еще у меня есть книжка, изданная в 1933 году, «Воображаемые портреты», шаржи Николая Эрнестовича Радлова на ленинградских писателей (кстати, и название книги пародирует «Воображаемые портреты» Уолтера Патера). При мне в 45-м году папа перелистывал ее с приятелем (кажется, это был Шефнер) и почти над каждым портретом ставил значок — крестик, если писатель умер, или двойной крестик (# — «решетку»), если сгинул за решеткой. Портретов в книжке шестьдесят, двойными крестами помечены семнадцать. В двойной крест над С. Колбасьевым, писателем-моряком и знатоком джаза, вписан кружочек с точкой посередине — мишень. Про Колбасьева папа знал точно, что его расстреляли.
Любимый дядя И. В., ненадолго вернувшись после «десятки» из лагеря в 47-м году, рассказывал, что с ним проделывали в Большом Доме. «На первом допросе следователь беседовал со мной вежливо. Потом говорит: "Положите, пожалуйста, руки на стол. Я удивился, положил. Он взял линейку и стал со всей силы бить меня по пальцам». Я смотрел на большие пухловатые руки Константина Александровича. Представлять себе, как унижали вот этого крупного лысого человека в очках, было мучительно. И шурин И. В., директор мебельной фабрики Людвиг Гаврилович Кениг на семейных застольях рассказывал со своим неистребимым венгерским акцентом, как его обвиняли в шпионаже в пользу четырнадцати государств. Военнопленный Первой мировой, интернированный в далеком Красноярске, он женился там на старшей сестре И. В., потом вся семья перебралась в Ленинград. Арестовали его в 38-м, били, он чего-то не подписывал, потом подписывал, а однажды вызывают на допрос — кабинет незнакомый, одна стенка деревянная, следователь новый. «Я стою, держу штаны, чтобы не упали, — ремень-то забрали. И вдруг, — этого места в его рассказе я всегда с нетерпением дожидался, — деревянная стенка отодвигается, там стоит кресло, в кресле сидит страшная старуха…» Людвиг Гаврилович был из тех, кому повезло попасть под бериевскую частичную оттепель 39-го года, когда ежовских энкавэдэшников Берия пересажал и перестрелял и многих их подследственных отпустил. Все это, как водится, оформлялось как партийный контроль над органами...
***

Зачем пишутся воспоминания? Чтобы не уйти из жизни бесследно, нацарапать «Здесь был Вася»? Из тщеславного желания пристегнуть себя к великим покойникам: «В это время мы с Ахматовой работали над переводами из Леопарди…»? Для сведения счетов с прошлым и настоящим? Есть исторические мемуары, имеющие документальную ценность. Их пишут люди, которых жизнь вовлекла в дела, обычно интересующие историков. Или простые люди, бесхитростно оставляющие свидетельства прошлого быта.
ЧТО: Вокруг отсутствия меня: лекция о Льве Лосеве.
КТО: Григорий Петухов — поэт, 1974 г. р., окончил Литературный институт им. Горького. Родом из Екатеринбурга, живет в Москве. Автор поэтической книги «Соло» (Москва, 2012), лауреат Малой премии «Московский счет» (2013)
КОГДА: 2 июня 2015 года (вторник), 19:30
ГДЕ: Еврейский музей и центр толерантности, Москва, ул. Образцова, д. 11, стр. 1А