Ольга Гершензон — исследователь русско-еврейских культурных связей, писавшая о русском театре в Израиле и о российско-израильском кино. В этом году вышла ее книга The Phantom Holocaust — о то появляющейся, то исчезающей теме Холокоста в советском кинематографе. Ольга Гершензон — о том, когда евреям можно было появляться на советском киноэкране и когда нельзя, о том, почему мы сейчас не спешим смотреть фильмы, отправленные на полку; о том, почему Холокост — это всегда где-то далеко; и о фильме Константина Фама «Туфельки».
Анна Немзер: С чего началась ваша работа над книгой?

АН: В вашей книге подробно описывается динамика изображения Холокоста в советском кино — и это мерцающая динамика. Вы можете схематически прочертить эту линию, пунктиром?
ОГ: В поздние 30-е годы выходит целая серия антифашистских оборонных фильмов, потому что в это время нужно организовать народ против фашистской Германии. Среди этих фильмов есть много таких, которые резко атакуют и критикуют нацистский антисемитизм — и это полностью созвучно линии партии. Понятно, что в этих фильмах главные герои коммунисты, а не евреи, но еврейская тема заявлена в них четко. В 1939 году Сталин начинает дружить с Гитлером — и эти фильмы исчезают с экранов. Во время войны вообще художественных фильмов мало, а в документальных события Холокоста были запечатлены, но потом вырезаны, и сохранились они только в архиве. Это умелый монтаж, когда убираются желтые звезды с рукавов, а евреи превращаются в «мирных жителей». Но партийной линией в этот момент ничего четко не определено. Нет жесткого запрета на эту тему. Серая зона. А когда серая зона, то что-то все-таки можно. В 1945 году появляется фильм «Непокоренные» Марка Донского, классика, который раньше евреями не интересовался, хотя сам был из Одессы и говорил на идише. Это фильм про убийство в Бабьем Яру. И к 1946 году этот фильм убирают с экранов, потому что уже начинается кампания по борьбе с космополитами. Потом она разыгрывается, дело врачей — и до ХХ съезда никакие евреи вообще нигде не появляются. И наконец во время оттепели — бурная активность, как реакция. Пишутся сценарии в огромном количестве, и даже несколько фильмов удалось снять. «Комиссара» сняли в 1967 году — и положили на полку.
Еще один фильм, «Восточный коридор», должен был бы стать классикой — его тоже сняли, но в кинотеатрах почти не показывали. Его официально не запрещали, как «Комиссара», — просто убрали потихоньку. (Эти фильмы я называю оттепельными, потому что задуманы они были во время оттепели — просто советский кинематографический процесс страшно медлительный. Это все занимало годы — пока написали сценарий, пока прошли все уровни цензуры... Поэтому закончены эти фильмы были уже после оттепели — ну и сразу же убраны с глаз долой.)
Еще больше фильмов в это время, которые сняты не были — остались сценариями. В это время запрещается куча сценариев, один лучше другого: «Gott mit uns» Витаутаса Жалакявичюса и Григория Кановича, два сценария Михаила Калика — которые вообще-то могли бы перевернуть все наши представления о Холокосте.
После этого — брежневский застой и серые годы советского еврейства (по сравнению с черными сталинскими годами). Никого не расстреливают, но и не разгуляться. Проскальзывают на экране какие-то персонажи вроде еврейской девочки в фильме «Восхождение» Ларисы Шепитько. Но опять же — неугодно. Нельзя эту тему поднимать. И опять же в первом варианте сценария «Восхождения» еврейская тема заявлена очень сильно, а потом, когда уже стали снимать, ее свернули. К концу 80-х цензура умирает — и тогда еврейские фильмы хлынули на экран. Многие из этих фильмов плохие. И, в частности, тема Холокоста появилась. И в постсоветское время она легитимизировалась. Не выдающаяся тема — но одна из.
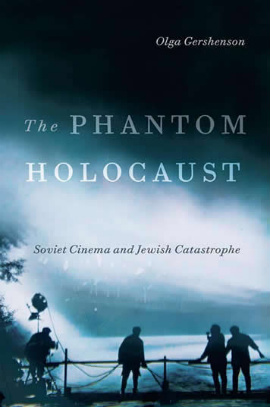
ОГ: Я разговаривала со всеми, кто жив, я говорила с детьми умерших, с членами съемочной группы. Ни у кого не было так, что ни с того ни с сего решили снять фильм о Холокосте. Это всегда связано с личным опытом — вне зависимости от того, еврей автор фильма или нет. Приведу три примера.
Пример еврейский. Григорий Канович, писатель литовского еврейства, — его семья выжила, он с мамой эвакуировался, папа сражался в Красной армии. Его эта тема не отпускала. Он все время общался с людьми, пережившими Холокост. И один из них рассказал ему историю: один литовский ксендз увидел, как немцы гонят колонну евреев куда-то. И он заметил в колонне маленького беленького мальчика. Он внезапно, неожиданно для самого себя вынимает все деньги, какие были, из кармана и говорит охраннику, литовскому парню: отдай мне этого мальчика, и ты угодишь Богу, церкви. Все! Больше ничего мы не знаем. Эта история страшно Кановича зацепила, и он рассказал ее Жалакявичюсу, тогда еще совсем молодому режиссеру. Из этого вырастает сценарий «Gott mit uns»: абсолютно достоевская драма священника, который спасает еврейского мальчика; он разрываем рефлексией, не понимает, зачем он это сделал.
Второй пример, нееврейский — Валентин Виноградов, совершенно незаслуженно забытый режиссер. Он закончил ВГИК, его послали по распределению на «Беларусьфильм», он там начал очень удачно работать, снял два фильма — и тут его вызвал к себе партийный начальник и говорит: надо сделать фильм о партизанах. Это год 1964–1965. А Виноградов не еврей, он из казаков. Он в это время работал со сценаристом Алесем Кучаром, который вообще-то не Алесь, а Айзик. Виноградов с Кучаром стали ходить по очевидцам, разговаривать с партизанами, с людьми, которые прятались в лесах, были в минском подполье, пережили гетто. Виноградов раньше этой темой никогда не занимался. Но в тот момент, когда они начинают говорить с очевидцами, мощь человеческой трагедии все сносит. И вот они делают супердраму, «Восточный Коридор», где чудовищная расправа над евреями передана очень сильно.
И третий пример — это режиссер Александр Аскольдов: его мальчиком в 30-е годы приютила еврейская семья, когда его родителей забрали в НКВД. И он потом не мог найти эту семью, искал — а так как дело было в Киеве, вероятно, их следы исчезли в Бабьем Яру. Осознание этого стало переломом. Он на всю жизнь запомнил этих людей и всегда был им благодарен — и из этой истории начинает вырастать «Комиссар».
АН: Понятно, что все эти фильмы (за редким исключением) — я уж не говорю про сценарии — очень мало известны. Про какой вам больше всего жалко, что он забыт, какой из них вам кажется самым сильным?
ОГ: Мой любимый — «Восточный коридор» Виноградова. Просто он художественно очень сильный. И то, что мы Виноградова не знаем, — это наша трагедия. Он был учеником Ромма, вместе с Тарковским и Шукшиным. И так судьба повернулась, что Тарковского и Шукшина все знают, а Виноградова — нет. А стилистически он в том же ряду, что Тарковский, отчасти Параджанов, — советское поэтическое кино: любой кадр можно замораживать и вешать на стену, как картину. Мы не знаем Виноградова совсем — а все из-за «Восточного коридора». Потому что когда они его сняли, Кучара вызвали и просто сказали прямым текстом: вы никогда больше не будете заниматься профессиональной работой — что и случилось. А Виноградова отстранили надолго от большого кино. Он долгое время занимался каким-то дубляжем, полной фигней, снимал телевизионные фильмы, которые буквально смывали с пленки, и так далее. А эти люди — что Виноградов, что Калик, что Аскольдов — они были непростые, принципиальные, неудобные. И поэтому их система давила.
АН: Понятно, почему судьбы ломались, а фильмы лежали на полках. Но вот что мне непонятно: почему то, что уцелело, не реанимируется, не достается с полок сейчас? Происходят показы ретрофильмов самого разного рода — от Люмьеров до хоум-видео. Почему вот эти фильмы не достают, не устраивают ретроспективы?
ОГ: Мне кажется, что Холокост вообще тема неудобная , а в России, на постсоветском пространстве — особенно. В Америке с Холокостом разобрались — он используется как мерило абсолютного зла: эти плохие, эти хорошие. Но даже здесь — если бы мы были голливудские продюсеры и хотели снять кино о Холокосте, мы бы сильно задумались. На каждый «Список Шиндлера» существует масса неходовых фильмов про Холокост, это надо понимать. Их никто не хочет смотреть. Кому надо вечером на свидании в кино насмотреться ужасов? Это в принципе сложная тема. А в России — еще более неудобно. Во-первых, нет в принципе культуры памяти, культуры второго поколения. Нет мемориализации разных травм на человеческом уровне — сталинских преступлений, Второй мировой. И тут — чтобы еще Холокостом кто-то занимался?
Во-вторых, включается такая логика: в Советском Союзе погибло во время войны 27 миллионов людей. Из них 2,7 миллиона — евреи. Масштабы страшные. Это хорошо где-то в другом месте носиться с 6 миллионами евреев погибших. А тут — ну вроде как что вы хотите. Мой коллега Джереми Хиггс называет это советизацией Холокоста. Я называю универсализацией: дескать, погибли люди, универсальная трагедия. В советском восприятии евреи погибли как советские граждане.
И последнее: когда мы начинаем говорить о Холокосте на советских оккупированных территориях, мы прикасаемся к теме коллаборационизма — а это вообще ужасная тема. В той же западной Германии после процесса денацификации люди были вынуждены провести с собой психотерапию и как-то решить: как получилось, что моя страна этим занималась. А Россия, Украина, Белоруссия и Прибалтика этого не пережили. Никому неохота задумываться о том, почему мой дедушка сдавал всех подряд, а бабушка стояла и смотрела, как расстреливают. Кстати, большинство фильмов, которые делаются сейчас о Холокосте, — это копродукция. Как и проект Константина Фама «Туфельки».
АН: Я как раз хотела вас спросить про сравнительно недавние фильмы — «Туфельки» Константина Фама и «Холокост. Клей для обоев» Мумина Шакирова.
ОГ: Я пишу в книжке, что поскольку тема Холокоста на советских территориях была неудобна, то даже если ее затрагивали, то пытались перенести куда-нибудь. Холокост? А, это Польша, Германия, это где-то, где зверства, расстрелы, где-то там. В этом смысле оба эти фильма соответствуют традиции. У Шакирова — девочек, не знающих, что такое Холокост, везут в путешествие, чтобы познакомить их с историей. Но куда их везут? В Аушвиц и Майданек. Это понятно. Это — там. Это абсолютное зло. Плохие немцы и хорошие евреи. Их не везут в Тростенец или в любую деревню на бывших советских оккупированных территориях.
Фильм Фама на меня произвел сложное впечатление. Его прием — фильм без людей, одни только ноги — мне показался упрощением. Красные туфли — привет от «Шиндлера», там на фоне черно-белого изображения Варшавского гетто возникает душещипательная фигурка маленькой девочки в красном пальтишке — очень понятная отсылка, но в чем суть приема? Персонажи редуцированы, люди лишены человечности — еще до того, как их всех уничтожили. Я понимаю, что это — прием, но мне ближе то современное кино о Холокосте, которое движется в сторону партикулярного. Есть фильм «Давид» Алексея Федорченко — о человеке по имени Давид, которому досталось в нацистских лагерях, а потом ему чудом удалось вернуться в СССР, и он загремел в ГУЛАГ. Очень сильный фильм, отражение целого в частном примере. А если мы оперируем абстракциями, то получается бессмыслица.
И опять же: сохраняется советское наследство, советский дискурс говорит через режиссера. Он тоже не размещает свой фильм в Смоленске, Минске или Киеве. У него — Освенцим, самый тривиальный ход. И это обидно. Понятно, что нацисты плохие, евреи хорошие. Уже в 2013 году можно было бы с какой-то более сложной тематикой подойти — и с более сложным художественным решением. Он оказывается заложником той ситуации несвободы, от которой уже можно было бы отойти и отказаться.
АН: В этом смысле Фам оказывается прямым продолжением вашего исследования?
ОГ: Строго говоря, да. Вот в Киеве в 1945 году был погром — почему у нас нет кино на эту тему? Потому что невозможно. А про красные туфли в Аушвице — можно, тут спору нет, никому ничего не угрожает. Это не расчет, конечно же, и намерения у режиссера самые благие. Но от советской традиции ему избавиться не удалось.














