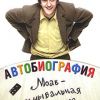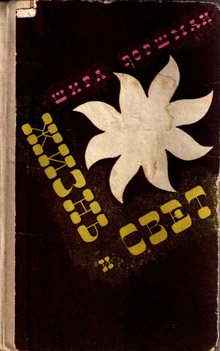
Не каждого идишского писателя в СССР издавали таким тиражом, да что там — просто оставляли в живых. Причем тираж разошелся, и в наши дни сборник достать трудно. Расскажем же о нем подробно. Может быть, кто-нибудь, заинтересовавшись книгой, решится ее переиздать, а кто-то, найдя ее на своей книжной полке, перечитает.
У Ширы Горшман совершенно героическая с советской, да и с любой точки зрения биография. Сопутствовала ей и немалая доля везения, насколько это слово применимо к еврейской судьбе в XX веке.
Значительная часть сборника посвящена еврейским крымским коммунам конца 20-х - начала 30-х гг. XX века и тяжелому, но радостному труду их членов. Недавно Евгений Цымбал снял на эту тему фильм. Шира Горшман знает о коммунах на своем опыте.
В книге также собраны рассказы про старую жизнь в еврейском местечке. В еврейской литературе есть две тенденции – резкая критика местечка и традиционного уклада и ностальгическая идеализация. У Горшман – нечто среднее. Нищета, преследования, невежество, убожество, из одиннадцати детей выживает шестеро… Природа, взаимовыручка, милые патриархальные привычки, а ссоры – как будто понарошку.
И в более поздних произведениях Горшман есть воспоминания о местечке. Родители не хотят выдавать дочь за бедняка, но, в конце концов, сдаются. Бабушка с дедушкой принимают внучку с больным ребенком – плодом союза, не освященного раввинами. Сумасшедший муж приносит горе своей семье. У пары долго не было детей, и наконец родилась двойня. Живущий в деревне двоюродный брат Арье-Лейб — такой выжига и грубиян, что бабушка не приглашает его к столу. Всех их убили фашисты.
Бабушка Малка выливает котел кипятка на голову литовскому полицаю. Пережившую войну еврейскую семью соседи упрекают, что у них «каменные сердца» - они никогда не плачут. Но жизнь продолжается.
После войны осталось очень мало мужчин, и красавицы долго не выходят замуж – не за кого. Тут возникает тема смешанного брака. Героиня одного из рассказов приводит домой русского провинциального актера. После долгого прозябания к нему приходит успех, и его талант вознагражден. И здесь мы видим автобиографический мотив: дочь Ширы Горшман вышла замуж за И. Смоктуновского.
Автобиографическая повесть «В созвездии тельца и овна» (в других изданиях «Стада и отары Ханы») рассказывает о еврейских коммунах в Крыму и о Хане – лучшей доярке, бой-бабе, наезднице и матери троих дочерей, отец которых коммунарам неизвестен. Описание коммуны напоминает о нравах в первых киббуцах. Ведь именно из Палестины приехали в Крым коммунары, решив, что Советский Союз – более свободная страна. Дети воспитываются вместе, все члены коммуны едят в общей столовой, коровы и прочее имущество обобществлено, время от времени устраиваются общие собрания для разбора конфликтов. Все коммунары работают на износ, но страсти кипят нешуточные:
Хана отдает свое сердце художнику Нэхемии, приехавшему из Москвы рисовать «новую жизнь» и уже плохо говорящему на идише. Страстный роман на природе (коммунары живут по несколько человек в комнате), долгая разлука и переписка – и Хана уезжает в столицу накануне разгона еврейских коммун.
В Москве разыгрывается сюжет «простушка в городе». Бывшая коммунарка идет в театр в кирзовых сапогах, потому что у нее нет туфель. На спектакле она так переживает, что визжит, «как в степи». Она очень удивляется, что друг мужа – художник Куприянов, по происхождению русский дворянин – целует ей руку. Муж учит ее русскому языку, и она начинает читать по-русски. Хана – просто образец «нового человека»: землю попашет – попишет стихи. Утром она работает в детском саду – ездит за продуктами, борясь с воровством поварихи, помогает на кухне и сама готовит детям еду. Вечером слушает дискуссии еврейских поэтов и художников об искусстве, потом убирает за этими поэтами и художниками, моет пол и посуду… По воскресеньям ходит с мужем в Пушкинский музей и смотрит там на полотна Сезанна, Писарро и Дега. Приходя из музея, ощущает такое же приподнятое настроение, как в детстве после субботы или другого религиозного праздника. Фигура мужа, склонившегося над рисунками, напоминает ей фигуру деда, читающего Гемару (Талмуд).
Вот так, никакого конфликта – одно перетекает в другое, внешне естественно и безболезненно. Конечно, герои Ширы Горшман – носители социалистических и атеистических взглядов. При этом никакой прямой критики религии и традиционного образа жизни нет. Все должно быть понятно и так: у евреев началась новая жизнь. Но о детстве говорится с ностальгией. Вспомним другую советскую еврейскую писательницу Александру Бруштейн, выросшую, в отличие от Ширы Горшман, в достаточно состоятельной и ассимилированной семье. Героиня Бруштейн не будет сравнивать труд современного человека – врача или художника – с изучением Талмуда. А для Горшман очень важно подчеркнуть преемственность поколений, хотя и она, и ее героини отошли от традиции так далеко, что можно сказать – не отошли, а оторвались и улетели со свистом.
Круг чтения Ханы и других персонажей сборника тоже свидетельствует о естественном соединении интереса к национальной и мировой культуре. Героини Горшман – наивные читательницы, они плачут над книгами и видят в героях живых людей:
Наряду с произведениями Шолом-Алейхема и Переца, Опатошу и Вайснберга, Гофштейна и Галкина ее до глубины души трогали Чехов и Толстой, Сервантес и Диккенс… Смерть Андрея Болконского она переживала словно утрату близкого человека.
Я ведь не упрекаю тебя, что ты проливаешь слезы над «Дэвидом Копперфильдом» и «Мальчиком Мотлом»?
Чем Дэвид Копперфильд хуже Мотла? Чем я провинилась? У Мотла хотя бы была мать, старший брат. А кто был у бедного Дэвида?.. Такое золотое дитя, душа разрывается!
В повести очень подробно описан быт – быт коммуны, московский довоенный, военный и эвакуационный. Хана непрерывно трудится, таскает тяжести (от чего один раз у нее случается выкидыш), поддерживает чистоту и готовит пищу. О еде у Ширы Горшман рассказывается в традициях еврейской литературы – подробно и аппетитно, хотя еда эта крайне бедная. Хана начинает писать на идише – она записывает свои воспоминания и впечатления и рвет написанное. Потребность писать оказывается настолько сильной, что она преодолевает неуверенность в себе, жертвует сном и ссорится с мужем. Муж, человек любящий и чуткий, почему-то совершенно не поддерживает ее творческих амбиций. «Тебе это не нужно», — говорит он, и Хана чуть не плачет от обиды. Однако находятся другие ценители. В гости к Хане и Нэхемии заходитЛев Квитко, книги которого Нэхемия иллюстрирует. Как-то Хана забыла спрятать свой новый рассказ… Квитко приходит от него в восторг. Хану печатают в идишских журналах «Звезда» и «Будь готов». Нэхемия нехотя замечает: «Неплохо, однако ты пишешь только о себе и о себе».
Кстати, во включенных в сборник произведениях Горшман присутствуют явно, впрямую звучащие феминистские мотивы. Ее героини – представительницы племени эшет хайль (добродетельных жен), но им не нравится, если муж только сидит у городских ворот. Женский труд тяжелее мужского!
Нэхемия взял Хану из коммуны с тремя детьми в Москву, то есть, по мнению многих, осчастливил (и спас от грозивших ей репрессий). Они любят друг друга истинной любовью. И тем не менее в один тяжелый день Хана говорит о том, что Нэхемия ничего не потерял от их союза, а она, Хана, полностью поломала свою жизнь, лишилась коммуны, крымской природы, товарищей и авторитета.
Именно о коммунарской жизни вспоминает Хана, пытаясь справиться с болью – ее младшая дочка умерла во время войны, сойдя с ума после бегства из Литвы, где Хана перед войной навещала родителей и родственников (всех расстреляли фашисты в местном Бабьем Яру). И теперь Нэхемия уже уговаривает ее писать, надеясь, что это поможет ей выйти из депрессии. Наконец Хана диктует мужу рассказ о жизни и смерти одного из коммунаров. Подруга этого подвижника чувствует, что он осознал свою скорую кончину и «отделился и от нее, и от всех остальных коммунаров» — ох, не зря Хана плакала над Андреем Болконским! Записав свое воспоминание, Хана начинает постепенно приходить в себя.
На этом повесть «В созвездии тельца и овна» обрывается. Никакой композиционной и сюжетной завершенности! Конец сороковых годов – время для деятелей еврейской культуры сравнимое с военным. Удалось ли семье Ханы выжить? Ответ на это дает не повесть, но биография Ширы Горшман. Хане-Шире опять повезло: ни ее, ни ее мужа не расстреляли. После смерти Сталина она продолжала печататься. В 1963 г. у нее вышел сборник в переводе на русский язык «Третье поколение». Горшман входила в редколлегию журнала «Советиш геймланд». Источники говорят о том, что сборник «Жизнь и свет» выходил по-русски в 1974 и в 1983 гг. Наше издание – 79-го года. Выходили и другие сборники.
В 1989 г., оставив в Москве детей и внуков, Шира Горшман уехала в Израиль, совершив тем самым «алию» во второй раз в жизни. Она прожила почти сто лет и умерла совсем недавно – в 2001 году. В Живом Журнале можно прочесть о том, какое впечатление Шира произвела на молодую девушку, испытывавшую отторжение от израильской действительности. Автор этих воспоминаний пишет, что в Израиле Шира еще раз вышла замуж – за бывшего коммунара. Богатыри – не мы.