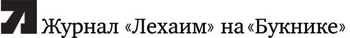Про Михаила Генделева написано немало. Он того заслуживает. Удивительный, странный, ни на кого не похожий (еще десяток эпитетов того же рода) поэт. Поэт, однажды обмолвившийся в своем интервью: «Способ меня шантажировать — вспоминать мои юношеские сочинения, в частности, успехи на песенном поприще. Одна из моих первых песен написана к спектаклю “Бег”. Тема была белогвардейская, что весьма полезно еврейскому мальчику…» Кто бы другой гордился, а Генделев… шантажировать. Помню как сейчас, Сережа Капаруллин в стройотряде рычал под гитару:
«Корчит тело России / от ударов копыт и подков / непутевою силой (у Генделева «непутевы мессии», но Сережа пел по-другому) / офицерских полков. // И похмельем измучен, / от жары и точки сатанел, / пел о тройке поручик / у воды Дарданелл». Знать он не знал, что поэт, это написавший, сейчас на маневрах в Бейт-Джубрине. «А я совсем не молодой / И лекарь полковой / Я взял луну над головой / звездою кочевой…» И дальше, по-моему, еще лучше: «И головой в пыли ночной / Я тряс и замирал / И мотыльки с лица текли / А я не утирал…»
Про такого поэта должны быть написаны не только статьи, но и книги.
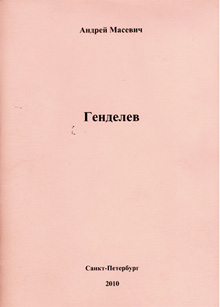
«Каин и Авель», — объявил Генделев. Это стихотворение я потом слышал много раз. Даже пытался пародировать авторское чтение. Там в конце камень сорвался с горы, и это был — Каин. «А Авеля не было», — на этом месте Миша всегда застывал с открытым ртом. Еще пауза. Рот опять-таки открыт. (Стихи привожу по памяти, никогда не видел их напечатанными.) <…> «Холодные песенки, что пели киноактрисы»… «Кружились на синем экране красные люди Матисса». Член Союза писателей чуть поморщился. А Генделев начал следующую вещь: «Жил-был мальчик, обыкновенный мальчик, / чудный, северный город устало уснул, / положив тяжесть скул на сжатый кулак собора».
Тон книги, ее интонация? Вы ее уже почувствовали. Нервная, многословная, достоевская, бесстыжая.
"Я хочу сделать тебе подарок. Магнитофон есть? Неси. Я начитаю тебе кассету». <…> Меня разозлило его самомнение. Он читал свои стихи, будто одаривал такой ценностью. Мне еще пришло в голову, что вообще он разыгрывает роль поэта, притворяется, причем играет плохо, фальшиво, и я пьяными словами, запинаясь, высказал вслух это свое тонкое психологическое суждение. Мишка даже, кажется, растерялся. «Так это же только наигрыш, я как композитор…» Я продолжал нести свое. Он нажал кнопку и стер начитанную запись. Утром я решил, что с Генделевым теперь рассорился навсегда. Весь день это меня грызло, а вечером я решился ему позвонить. Он, на удивление, оказался дома. Я забормотал не то чтобы извинения, а объяснения… «Не могу понять, что тебя мучает?» Он не помнил того, что я наговорил. Не помнил! Я не был удостоен обиды. И записи стихов у меня не осталось. Впрочем, все равно тот мой магнитофон давно не работает, а чинить я его не умею…"
Странно, но этот тон, эта интонация не злят и не раздражают. Как не злит и не раздражает слишком частое поминание черта в тексте Масевича. Прием оправдан. В юношеской поэме Генделева «Фаустов», которую обильно цитирует и пересказывает Масевич, Черт — главный положительный персонаж. Также не злят и не раздражают рефреном проходящие через всю книгу сообщения, сколько за время ее написания автор выпил водки «Зеленая марка». Это же русско-еврейские поминки. А как на них без водки? Масевич поминает и вспоминает не только Генделева, но и всю ту среду, всю ту компанию, в которой рос поэт. Руководителя ЛИТО при Сангиге, преподавателя кафедры инфекционных заболеваний Николая Воджи-Петрова и строчки его стихов «И солнце в небе, как медаль за оборону Ленинграда», приятелей Генделева по КВНу того же Сангига Льва Щеглова, ныне профессора психотерапии и телеведущего, Шуру Пурера, драматурга Александра Галина, Сашу Рюмкина, просто талантливого парня, ныне бизнесмена, приятельницу Генделева Ларису Герштейн, лучше всех певшую его песни.
Лариса пела «Трефовую польку»: «Кони губернаторской коляски / По булыжной мостовой в опор…» Даже теперь, когда пишу это, я в голове слышу эту песню. Особенно припев: «А жандарм растасовал колоду, / Вновь в раскладе туз и снова треф, / Ведь всегда находится, и это стало модой, / Ведь всегда находится на одну колоду / Один маленький, маленький Азеф, / Такой маленький, маааленький…» Помню, шел по проспекту Смирнова, фальшиво, по-другому не умею, напевал: «Сдохли кони лаковой коляски, / Смыта кровь, асфальтом залита…» Потом в Израиле Лариса занялась политикой и стала, говорят, чуть ли не мэром Иерусалима…
Это та среда, что формировала поэта. С ней он спорил, из нее он вышел. К ней он возвращался во время приездов из Израиля в Питер.
Генделеву надо было возвращаться. Были опять проводы, их в этот раз устроили у Льва: «Вы чудные, вы теплые, — сказал Миша, — других таких нет. Только не умирайте, пожалуйста».