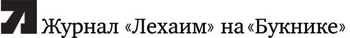Есть люди, которые попадают в простреливаемую зону. Не в нейтральную, а в простреливаемую, не так, чтобы и вашим, и нашим. А так, чтобы и наши, и ваши от всей души могли по ним лупить. Как правило, это умные люди, много сделавшие для других.

Потому-то я с такой страстной радостью схватился за новую книгу Бориса Фрезинского. Фрезинский в молодости, видимо, тоже захлебнулся, задохнулся от открывшегося ему мира и стал верным биографом и исследователем того, кого Владимир Набоков однажды назвал «гениальным журналистом и очень смелым человеком».
Сам Фрезинский — физик. Его диссертация 1980 года называется «Исследование и разработка алгоритмов приема оптических сигналов с многопозиционной импульсной модуляцией». Это важно, поскольку гуманитарные исследования его технически точны. Непроверенных сведений не сообщает. А потом все ж таки светом занимался. Теми сигналами, которые пробиваются к реципиенту. И тем, как реципиент эти сигналы принимает и воспринимает. Некоторая рифмовка с его гуманитарными интересами, по-моему, имеется.
Книга, огромный том, составлена из статей об Эренбурге, написанных в разные годы. Получилась почти биография. Здесь рассказывается, как Эренбург пробивал в печать свои мемуары, как помогал самым разным людям, как писал свой первый роман «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников» (один из лучших романов ХХ века), как писал и печатал первый вариант воспоминаний, «Книгу для взрослых», в 1936–1937-м, как работал в Испании во время Гражданской войны, в СССР во время Великой Отечественной…
Несколько эпизодов из этой книги хорошо в меня воткнулись. Эренбург читает воспоминания Надежды Мандельштам, яростные, все называющие, непроходные, рассчитанные на самиздат и тамиздат, а потом говорит: «Надя, ты пишешь для сотен, которые и так все знают, я пишу для тысяч, если не для миллионов, которые ничего не знают»…
Один из авторов первой в Советском Союзе книги о Пикассо, Игорь Голомшток (его соавтором был Андрей Синявский), беседует с Эренбургом, без помощи которого брошюра о художнике не появилась бы. Эренбург ворчит на цензурные трудности, Голомшток ему говорит: «Пишите в стол, Илья Григорьевич». И слышит в ответ: «Я — средний писатель. Все, что я пишу, должно быть прочитано сегодня. Завтра и послезавтра это будет никому не нужно». Голомшток потрясен. Чтобы кто-нибудь из писателей сказал о себе: «Я — средний писатель»? Уважение к Эренбургу у него возрастает на несколько градусов…
Эренбургу, вернувшемуся из Испании в 1938-м, журналисту, над которым нависла угроза ареста, дают пропуск на процесс его друга и покровителя Николая Бухарина. Эренбург сидит в первом ряду и видит всю постановку. В перерыве ему говорят: «Надо написать очерк». А он отвечает: «Нет». Просто и ясно: «Нет». Вот это касательно «приема оптических сигналов». Сейчас абсолютному большинству читателей даже не объяснить, какой это был отчаянно смелый поступок…
Фрезинский беседует с пожилой женщиной, подругой Мандельштама, Ахматовой, вообще всехней подругой. Беседует об Эренбурге. Пожилая женщина ругмя ругает сталинского агента на Западе, хитрого карьериста, журналюгу, конформиста, ну, все, как полагается. Спустя некоторое время Фрезинский обнаруживает в архиве Эренбурга письмо этой женщины. Ее выселять собираются из ведомственной квартиры, она пишет Эренбургу: мол, зная вашу высокую гуманность, вашу готовность помочь, пожалуйста, Илья Григорьевич, напишите руководителю ведомства, президенту АМН СССР, Блохину. И Эренбург пишет. И квартиру оставляют.
Читая все это, я подумал не только про то, что Эренбург в условиях тоталитарного общества умудрялся вести свою политику — разумеется, связанную со множеством компромиссов, но политика и есть искусство компромисса, а что же еще, — но и про то, что ведь его жизнь может стать образцом для подражания. Он много работал. Заработал вес и влияние в обществе и использовал этот вес, это влияние для того, чтобы помогать людям. Отступал в одном, в другом — выигрывал.
Я подумал о том, почему эта жизнь не стала образцом для подражания. Почему с большей охотой подражали и подражают непризнанным гениям, не печатающимся, пишущим в стол в расчете на благодарное потомство, гордо отворачивающимся от грязной, поганой действительности, не желающим в ней мараться. Ответ ясен. Потому что куда как трудно сказать самому себе: я — средний писатель. Все, что я делаю, нужно только сегодня. И поэтому сделать это нужно, хитря, соглашаясь на компромиссы, сегодня. Завтра это будет никому не нужно. Это труднее, безжалостнее и ответственнее, чем успокаивать себя мыслью: пишу для вечности, завтра-послезавтра прочтут и восхитятся.