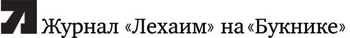Понятию «еврейского» у Мандельштама посвящено несколько специальных работ – прежде всего, Кирилла Тарановского, а также Патрика Кегеля, Хольта Майера и Леонида Кациса.

Брат поэта утверждал, что в протестантизм Мандельштам крестился под давлением обстоятельств: с его неважным аттестатом и при наличии ограничений для поступления евреев в университеты крещение представлялось единственным выходом. Киршбаум склоняется к этой версии, подчеркивая в анализе «Шума времени», что «вместо Талмуда отец Мандельштама читал Шиллера» и что именно Германия и «немецкое» были для него «возможностью выхода из “иудейского хаоса”». Отсюда и противопоставление поэтом «настоящих» еврейских домов, вроде домов их прибалтийских родственников, дому своих родителей. Он не вполне еврейский, хотя в «Шуме времени» «еврейскому началу, метонимически воплощенному в кабинете отца, противопоставляется строй Петербурга». О том, что родительский дом не воспринимается как полностью еврейский, Киршбаум пишет в том разделе главы о «Шуме времени», который посвящен оппозиции «еврейский хаос – немецкий строй». Отец, отправлявший сыну письма на немецком и предпочитавший всему на свете немецкую культуру, и мать, сделавшая выбор в пользу культуры русской, – эта парадигма определила развитие самого Мандельштама.
Местом встречи всех трех элементов, «немецкого», «русского» и «еврейского», оказывается музыка. Именно она, вместе с немецкой и русской литературой, а также строем Петербурга, олицетворяет «европейский императив еврейства мандельштамовского поколения» – не случайно она занимает совершенно особое место в мандельштамовской поэтике, и на страницах книги «Валгаллы белое вино…» ей уделено достаточно много внимания. Музыка Баха как воплощение риторико-эстетических принципов протестантизма, дионисийство Бетховена, разочарование в Вагнере… мало у кого из поэтов внутреннюю биографию можно разбить на музыкальные части, где кодой выступает прошубертовское «Жил Александр Герцович…».
Особый интерес вызывают страницы, посвященные Гейне. Казалось бы, замечает исследователь, «Мандельштам мог идентифицироваться с Гейне по многим параметрам: еврейство, крещение – у обоих – в протестантизм, скитальческая жизнь, изначальное положение поэта, принимающего и осваивающего русскую поэтическую культуру (в случае Гейне – немецкую) не по наследству, а в результате сознательного выбора.
Наверняка Мандельштам знал и об особом положении Гейне в немецкой поэтической среде». А при этом – не только заявленное отождествление себя с Гете, но и вообще последовательное избегание самой темы Гейне в собственных произведениях, за исключением одного шуточного стихотворения и упоминания в прозаическом тексте о Блоке. Остальное – лишь скрытые отсылки, оборачивающиеся «непроговоренностью мандельштамовской связи с Гейне». Именно она позволила в свое время Сергею Аверинцеву обратить внимание на последовательное игнорирование Мандельштамом этого поэта. Киршбаум полемизирует с такой точкой зрения, высказывая, в частности, гипотезу, что «Мандельштам мог опасаться проецирования-идентификации себя и своего места в русской поэзии с ролью Гейне в немецкой»; не последнюю роль в таком проецировании могло сыграть еврейское происхождение обоих поэтов.
И другие истории с биографиями: