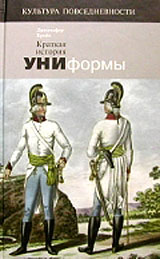Стюардессы, монахини, спортсмены, шеф-повары, проститутки и военные: униформа - это не одежда, униформа — это матрица. Профессор австралийского университета Дженнифер Крейк рассматривает униформу со всех сторон и во всех контекстах: власть, секс, социальная иерархия и религиозные практики. Книжка не толстая, чуть больше двухсот страниц, при этом почти тридцать занимает библиография. Иначе говоря, не очередная попсовая псевдоэнциклопедия, а серьезное исследование.
«Форма не столь понятна, как принято думать. У формы есть явная и тайная жизнь, и цель этой книги – выяснить их взаимосвязь… Чтобы понять роль формы, я различаю в этой книге официально принятую форму от квазиформы и неформальной формы».
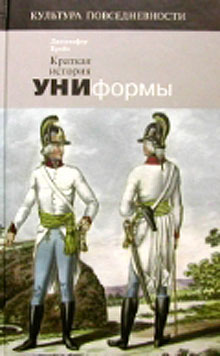
Большинство квазиформ происходит либо от военной униформы – которая во все времена символизировала власть и мужественность, либо от церковных одеяний – атрибуты которой обозначали мудрость и знание и показывали, что человек в таких одеяниях принадлежит к кругу избранных.
Однако у всякой квазиформы свои особенности. Например, школьная форма. Одежда учеников - главное средство управления телом и поведением. Правила универсальны: юбка должна закрывать колени, пуговица под галстуком должна быть застегнута, рубашка заправлена; прическа не слишком короткая, не слишком длинная. Но важнее не то, что разрешено, а запреты – гласные или негласные. Никаких украшений, нашивок или разноцветных носков. Никакого макияжа и украшений. Туфли на высоком каблуке запрещены, как и спортивная обувь. Как можно меньше индивидуальности и ни единого намека на сексуальность. В итоге школьная форма с ее системой запретительных кодов легко становится фетишем для недозволенных фантазий.
Поскольку человечество всегда более тяготело к войне, чем к мудрости, рассказ о военной униформе занимает большую часть книги. И выясняется, что одежда мирного населения и форма военных всегда развивались параллельно. Скажем, надрезы на рукавах, штанинах и плащах французских вельмож, сквозь которые просвечивают атласные подкладки, – не шизофреническая выдумка средневекового портного, а подражание обычаю ландскнехтов ставить на мундиры заплаты из дорогого трофейного шелка.
Или взять британский колониальный стиль – неизбежный компромисс, к которому постепенно пришли колонизаторы и туземцы. Он возник стихийно, когда к традиционной форме английские солдаты начали добавлять элементы индийской национальной одежды. Завоеватели постепенно стали похожи на местных жителей: широкие поясы-шарфы и полотняные повязки, а также тюрбаны и кривые шашки. Индусы же, стараясь выказать колонизаторам лояльность, одевались в простую английскую форму. Симбиоз элементов одежды стал первым этапом взаимопроникновения двух культур, в результате которого история получила новый тип британца: белого человека, выросшего в Индии.
«Сперва британцы предпочитали одеваться не так, как местные жители, стараясь подчеркнуть свое отличие от них, но вскоре поняли, что обмен одеждой может служить инструментом борьбы за власть… Утверждая свою колониальную власть, британские правители изменили форму церемониальной одежды, чтобы наградить «заслуживших» этого индусов».
И, разумеется, когда Индия начала борьбу за независимость, первым отличительным признаком ее сторонников стала традиционная индийская одежда – белое сари.
Случалось и наоборот: запрет на ношение национальной одежды или отдельных ее элементов вызывал волнения в стране. Но чаще всего смешение различных типов одежды порождало все же не войну, а новую моду.
Все это касается и национальной одежды евреев – каковую, без всякого сомнения, можно считать униформой, поскольку она всегда жестко регламентировалась предписаниями иудаизма. Требования к внешнему виду могли быть оформлены официально, например:
«Они не должны брить головы своей и подстригать края бороды своей и делать нарезы на теле своем» (Левит, 21: 5).
«И сказал Г-сподь Моисею, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих… и в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти. И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Г-сподни» (Числа, гл. 15),
либо регулироваться местечковыми негласными законами, вроде: «Муж должен одеваться ниже своих возможностей, детей одевать сообразно своим возможностям, а жену одевать выше своих возможностей».
Национальная еврейская одежда, как и многие другие, часто оказывалась под запретом, а ее ношение каралось штрафом. Феликс Кандель в «Очерках времен и событий» пишет:
«В 1844 году налог ввели уже не на шитье, а на ношение еврейской одежды. В каждой губернии устанавливали свои цены, и в Вильно, к примеру, брали с купцов первой гильдии по пятьдесят рублей в год за право сохранить традиционный костюм, с мещан по десять рублей, а с ремесленников – по пять. За одну только ермолку на голове полагалось с каждого еврея от трех до пяти рублей серебром».
Длиннополые лапсердаки становились предметом ожесточенных споров не только в большом мире, но и внутри общин, а сбритые пейсы вызывали у соплеменников величайшее презрение – и одновременно способствовали признанию среди иноверцев.
Еще одна особенность формы и квазиформы: ее символическое значение может легко измениться в зависимости от контекста, поскольку
«униформа как радикальный вид одежды служит условным обозначением определенного типа поведения – ожидаемого или не ожидаемого наблюдателем. Благодаря форме личности идентифицируются, их значение оценивается, правила поведения предугадываются… Форма выполняет функцию маски и является частью сложной социальной игры, которую можно принять или отвергнуть».
Один и тот же текст в разных декорациях — и вот уже белые ризы праведника становятся нарядом величайшего грешника, а мантия академика – покровом для косности и предрассудков. А все потому, что одежда, согласно источникам, есть результат одновременно прозрения и грехопадения. Фиговый лист или овечья шкура, кипа или пробковый шлем, фрак или мундир: так легко стать другим человеком, всего лишь надев новую форму. Так же легко, как леопарду стереть свои пятна.
Еще про одежду:
Одежда с цимесом
Израильская мода