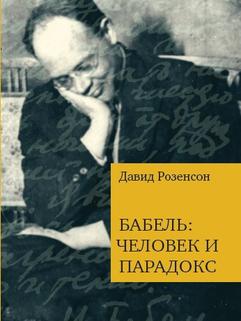Давид Розенсон. Бабель: человек и парадокс.
Москва: Книжники; Текст, 2015

Монография Давида Розенсона состоит из двух частей: «Внутри и снаружи» (об отношении Бабеля и его персонажей к собственному еврейству») и «Бабель на иврите (1920–1960 годы)». Если судить по заголовкам, это два самостоятельных исследования, предметы которых в рамках одной общей темы довольно далеки друг от друга. Это действительно так в том отношении, что каждую из частей книги можно читать отдельно и не ощущать неполноты. Это не так, потому что «Бабель на иврите» — не просто переведенный русский писатель-еврей, а уникальная фигура, с которой израильская интеллигенция сверяла собственное существование «внутри» или «снаружи». И Давид Розенсон очень убедительно и образно — образно настолько, что серьезное научное исследование оказывается одновременно и очень личностным, поэтичным большим эссе — показывает, как одно вытекает из другого.
Обе части построены совершенно особым образом: если бы речь шла о фикшне, можно было бы сказать — со вставными новеллами: очерками о дореволюционной Одессе и о том, как покушение на Александра II могло стимулировать первую алию, подробными биографиями израильских публицистов и рассказами об израильских изданиях — и все это чрезвычайно интересно, так что книга превращается в ветвящийся борхесианский сад, где все связано со всем.
Что это за «внутри» и «снаружи»? Внутри и снаружи собственно еврейства, конечно. Это вообще очень распространенная тема советского и постсоветского дискурса, часто даже не профессионального, а «кухонного» (в смысле диссидентских прокуренных кухонь, а не тех, из которых управляют государством) — «русский писатель» или «русскоязычный». Бабель, Бродский, Пастернак, кто угодно — не важно. Всякий еврей, работающий в рамках любой европейской культуры, оказывается маргиналом: он на границе, он по обе стороны — свой и чужой. Для одессита Бабеля это оказывается еще более верным из-за удивительного культурного статуса самой Одессы. Этот город — не русский, не еврейский, не украинский, и в то же время и то, и другое, и третье, и в каждом случае — совершенно особым образом. А уж если говорить об интересующем нас еврейском аспекте, то прямо-таки особенно особым: это город официально в черте оседлости, евреев там двести тысяч (это до революции), но разве хоть чем-то он похож на традиционный штетл? А если учесть, что первые рассказы Исаак Бабель писал на французском, маргинальность его самоощущения по отношению и к русской, и к еврейской культурам кажется еще большей.
Большая часть исследователей рассматривала творчество Бабеля в отрыве и от иудаизма, и от еврейского быта. Отечественные — если не ввиду антисемитизма, то в лучшем случае из приверженности к интернационализму, закрывая глаза на очевидное: даже во времена перестройки четыре журнала отказались публиковать конармейский дневник Бабеля, мотивируя это опасениями, «как бы дневник не повредил репутации Бабеля, “подразумевая тем самым, что взгляд Бабеля на политический и общечеловеческий пейзаж в послереволюционный период демонстрирует его чрезмерный интерес к еврейскому вопросу”».

Еврейский интеллигент, да и вообще еврей в России и в Европе, — человек обочины, он одновременно вне и внутри, свой и не свой, он хочет оставаться евреем и остается им, но в то же время подвержен соблазнам если не ассимиляции, то Хаскалы — еврейского просвещения. Давид Розенсон показывает, как это актуально было для одессита Бабеля, и что еще важнее, доказывает, что казаки, конармейцы были Бабелю интересны не только как боевая сила большевизма, но и как (в том же смысле, что и евреи) обочинные люди, маргиналы. Ведь исторически казак — охранитель границ, русский и не русский одновременно, представитель совершенно уникальной культуры, которую при этом нельзя определить как этническую.
«Чем же объяснить зачарованность Бабеля обитателями нового становящегося мира — казаками Первой конной армии? Парадоксальный ответ на этот вопрос в том, что Бабель отождествлял казаков с евреями, аутсайдерами. Это кажется нонсенсом, ибо казаки преследовали евреев еще задолго до кровавой гайдаматчины. Однако казаки обладали особыми и не только героическими свойствами лихих воинов. Бабель испытывал к ним любопытство художника, потому что они были созвучны еврейской инаковости — они были “другими”, ибо существовали в пограничье российского общества, выступали его инсайдерами, поскольку принесли присягу Красной армии, но оставались аутсайдерами с точки зрения общества в целом. В отличие от евреев, они отнюдь не были интеллигенцией — то есть Бабель столкнулся с народом столь же “иным”, сколь “иным” был его собственный народ, с людьми, которые сознательно предпочли сражаться под чужим флагом, притом что никогда не смогут слиться с теми, для кого этот флаг родной».
Такое представление присуще не только Бабелю. Как отмечает Давид Розенсон, ранние сионисты, охраняя свои земли от арабов, также отождествляли себя с казаками.
«Конармия» полна этим неявным отождествлением, надо лишь чуть внимательнее читать. Письма же в этом отношении даже не нуждаются в особо пристальном внимании — ясно, что человек, который каждый год интересуется, была ли у матери маца на Песах, и хотел назвать новорожденную дочь Юдифью, не переставал быть евреем, несмотря на всю свою с(о)ветскость.

Вторая часть книги Давида Розенсона — «Бабель на иврите (1920–1960 годы)» — не так лирична, как первая, собственно научного, в ней больше, чем эссеистического, библиографии больше, чем филологии. Точнее, эта вторая часть тоже представляет собой два исследования в рамках одного: библиографическое, обо всей израильской критике и публицистике о Бабеле за 40 лет, так что и объем, и тщательность обработки материала просто завораживают, и филологическое, о специфике переводов Исаака Бабеля Авраамом Шленским.
Давид Розенсон отмечает, что наиболее интересной оказалась ивритская критика периода до Второй мировой войны: «…самые ранние ивритские статьи о Бабеле можно отнести к лучшему и наиболее точному из написанного о нем, так как авторы этих статей сами испытали все то, о чем писал Бабель, они обладали тем же культурным багажом…» Ицхак Норман определяет Бабеля прежде всего как революционного романтика, Тамар Должанская пишет о нем как о Ремарке гражданской войны. Статьи 1950–1960-х годов представляют собой историю литературной реабилитации Бабеля глазами израильских публицистов, то есть процесс движется параллельно с родной Бабелю по языку русской литературой. Что особенно важно — в израильской критике непрерывно идет присвоение Бабеля, осознание этого пограничного, мультикультурного автора как в том числе еврейского, и апофеозом этого оказываются переводы рассказов Бабеля Авраамом Шленским.
Лея Гольдберг начинает, а Давид Розенсон продолжает разговор об особом отношении Авраама Шленского к русскому подлиннику рассказов Бабеля как к переводу с иврита, так что сам он оказывается неким обратным переводчиком, и не переводит, но приводит — блудного сына — домой. Например, фразу из рассказа «Рабби»: «На нем была соболья шапка и белый халат, стянутый веревкой» Шленский переводит так: «Голова его была покрыта штреймлом, и белая капота стянута веревкой». Отчасти это напоминает великий эксперимент Агнона по «возвращению» ивриту средневековой светской литературы, которой в еврейской культуре не было; может быть, потому, что в Израиле все – о возвращении.
В приложении к книге Давида Розенсона дан «Конармейский дневник» Исаака Бабеля, как раз тот, который в 1987 году был забракован из-за чрезмерного интереса к еврейскому вопросу, но потом в России, конечно, издавался. Новый контекст позволяет читателю посмотреть на этот документ особым стереоскопическим зрением, например, увидеть связь между еврейским мудрецом Гедали, одним из ключевых — а насколько ключевых, становится еще понятнее именно благодаря расставленным Давидом Розенсоном акцентам — персонажей «Конармии», говорящим: «Революция — скажем ей “Да”, но разве субботе мы скажем “Нет”?» и вот этим, штрих-пунктирным: «Рынок. Маленький еврей-философ. Невообразимая лавка — Диккенс, метлы и золотые туфли. Его философия — все говорят, что они воюют за правду и все грабят. Если бы хоть какое-нибудь правительство было доброе. Замечательны слова, бороденка, разговариваем, чай и три пирожка с яблоками — 750 р.»