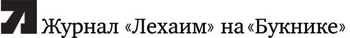Менахем-Мендл Лейкин

Отец мой тоже был религиозным, а мать еще покруче, чем отец. В таком же духе мои родители воспитывали и своих детей. В детстве я два года посещал хедер. А потом к нам домой приходил меламед и учил меня Торе, ивриту, молитвам. Мы с отцом регулярно ходили в синагогу. Дом у нас был любавичский — со всеми обычаями и правилами Хабада. Поэтому, кстати, в школу я по субботам не ходил.
Отец был специалистом по лесному хозяйству — выращивал лес, торговал им. Но после революции переключился в другую сферу и открыл бакалейный магазин. В нем были, естественно, только кошерные продукты.
В 1927 году развернулась кампания по преследованию нэпманов. Мой отец относился к ним, хотя магазин у него был совсем небольшой. Ну, конечно, магазин у него сразу отобрали. И поскольку никто не знал, чем это вообще может закончиться, к каким репрессиям привести, то в 1930 году отец решил уехать из Смоленска в большой город, чтобы затеряться в нем. Наиболее подходящим для такой цели местом был Ленинград с его многомиллионным населением. К тому же там была мощная хабадская община, многих представителей которой отец хорошо знал. И вся наша семья тихонько, не сообщая никому, куда мы едем, покинула Смоленск и перебралась в Питер. Отец, «лишенец», то есть лишенный гражданских прав, устроился на работу в еврейский колхоз «Еврабзем» («Еврейский работник земледелия»), неподалеку от города. Там он снова сменил профессию и работал счетоводом. Колхозников «Еврабзема» постигла жестокая участь: когда немцы в 1941 году подошли к Ленинграду, колхоз оказался в оккупированной зоне. И всех, кто не успел эвакуироваться, а таких оказалось подавляющее большинство, немцы убили.
 Отец Менахема-Мендла -- Велька (Вульф) Лейкин. 1930-е годы
Отец Менахема-Мендла -- Велька (Вульф) Лейкин. 1930-е годыОбойти это препятствие можно было единственным путем — приобрести собственный рабочий стаж. И я устроился учеником в мастерскую по ремонту пишущих машинок. А затем, имея рабочий стаж, подал документы в институт — на меня уже не распространялись ограничения сына «лишенца».
Поступил я в Ленинградский институт точной механики и оптики в 1932 году. Радости моей не было конца, но очень быстро ее испортили. В институте занимались шесть дней в неделю, и неявка на занятия по субботам грозила немедленным отчислением… Но дома вместе с отцом я каждое утро молился и надевал тфилин. А по субботам всегда ходил в синагогу. Там приходилось прибегать к мерам предосторожности — чтобы меня никто не увидел, я прятался от всех. В ленинградской Большой синагоге были столбы, и я всегда пристраивался за одним из них, в самом углу. Быстро молился, ни с кем в разговоры не вступал. Полностью соблюдать субботу даже на работе я вновь начал после войны, когда моя вера сильно укрепилась. Как? Сейчас расскажу.
В институте я учился очень хорошо, и меня оставили в аспирантуре. Я готовил кандидатскую диссертацию и одновременно преподавал. Но, к сожалению, диссертацию закончить не успел — помешала война. Почти сразу после ее начала весь преподавательский состав института принял решение о вступлении в народное ополчение. И через неделю мы все уже были в военкомате.
Нас обмундировали, дали винтовки и приказали построиться, чтобы на машинах отправить в часть. Но машины почему-то сразу не подошли, и мы несколько часов простояли на улице. А военкомат оказался точно напротив главной синагоги. И вот, стоим мы там, курим, разговариваем. Из синагоги вышла старушка и подошла к моему товарищу, выглядевшему как типичный еврей — черноволосому, с горбатым носом. Перепутать было невозможно. Чего нельзя сказать обо мне.
Подошла она к нему и спрашивает: «Сынок, ты идешь на фронт?» «Да, конечно», — с гордостью ответил он. «Давай я тебя благословлю», — предложила старушка.
Все вокруг заулыбались, захихикали — что это, мол, за старорежимные замашки. А мой товарищ, не обращая внимания на все эти смешки, взял да и согласился. Старушка положила ему руки на голову и что-то негромко сказала. Что — я не расслышал. А товарищ мой не понял — он иврита не знал. Длилась вся эта сцена от силы минуту, может, и того меньше. Но она оказала влияние на всю мою оставшуюся жизнь.
После прибытия на передовую наш полк народного ополчения почти весь полег в первые же дни. Нам ведь и оружия-то дали не на всех, а с таким расчетом, чтобы оставшиеся в живых подбирали его у раненых и убитых товарищей. Я чудом выжил, получив ранение под Волховом. Осколок пробил мне глаз, и я остался полуслепым на всю жизнь. Вдобавок там же, под Волховом, я получил тяжелую контузию. Но мне повезло: санитары вытащили меня с линии огня и отнесли в полевой лазарет. Оттуда меня уже переправили в тыловой госпиталь. Пролежал я в нем несколько месяцев и был вчистую списан по инвалидности.
А товарищ мой служил в самых что ни на есть боевых частях. Прошел всю войну, до Берлина, и не получил даже царапины. В каких только переделках ему не пришлось побывать, а он словно заговоренным был. Впрочем, почему словно? Он и был заговоренным.
Мы встретились в 1945 году, и он сказал мне: «Я уверен, что вышел из всех переделок целым и невредимым только благодаря благословению той старушки. Значит, есть Б-г на свете! Есть, для меня теперь в этом нет никаких сомнений. Только Он мог спасти меня и уберечь. Я был абсолютным атеистом, а теперь верю полной верой! И ты в Него верь!»
После демобилизации меня направили на военный завод. Произошло это в январе 1942 года. Завод выпускал снаряды и считался объектом первостепенного оборонного значения. А меня, молодого парня, имеющего высшее образование, сразу же сделали начальником ОТК — отдела технического контроля. Ответственность была колоссальная — шутка сказать, мы выпускали снаряды для фронта. А подпись на документах, что все партии снарядов без брака, была моя.
Мы, собственно, делали только металлическую часть снаряда. После нас железные болванки отправляли — пока еще немцы не замкнули кольцо блокады — под Москву. А там их уже начиняли взрывчаткой. И вот как-то раз из Москвы пришла телеграмма: «Два вагона ваших снарядов забракованы, высылайте представителя для разбирательства на месте».
Директор как увидел эту телеграмму, аж посинел от страха. В военных условиях за такое могли сразу же отдать под трибунал. А у трибунала был разговор короткий — к стенке. И директор отправил в Москву меня — начальника ОТК. Мол, подпись твоя, ты и разбирайся.
Я поехал — куда денешься? Взял с собой документацию, контрольные инструменты с приспособлениями. Еду и теряюсь в догадках, как такое произошло. Ну, пять, десять болванок могли каким-то образом оказаться бракованными. Но чтобы два вагона? Быть такого не может, что-то здесь не так!
Приехал я на подмосковную станцию Балашиха, нашел завод. Меня прямиком направили в тамошний ОТК. Начальник его долго разбираться не стал и, даже не выслушав меня толком, спросил: «Зачем ты явился?» Я сперва не понял, начал объяснять, показал телеграмму. А он смеется. Я сижу и трясусь, не знаю, чем это все кончится, а он смеется как ненормальный.
Отсмеялся и говорит: «Так как ты из Ленинграда, а у меня особое отношение к колыбели революции, к тому же там еще и мои родственники живут, так я тебе прямо скажу — подобные телеграммы мы посылаем всем нашим поставщикам. И они знают — после такой телеграммы надо прислать нам человека со спиртом. Ты привез спирт?»
Я ничего не понимаю и честно отвечаю: «Нет». «А что ты привез, что у тебя там в чемодане?» Я и говорю: «Накладные на все последние партии снарядов, документы об их проверке. И контрольные приспособления». И показываю ему.
Тот от смеха просто кататься начал. «Ваши вагоны со снарядами, балбес, уже давно воюют! А нам нужен спирт. Ладно, так и быть, на первый раз я тебя прощаю. Возвращайся в Ленинград, но в следующий раз без спирта не приезжай!»
Так я в первый раз столкнулся с тем, что сегодня называют коррупцией. И не где-нибудь, а на важнейшем военном предприятии. И не когда-нибудь, а в разгар войны! Но следующего раза уже не было: немцы замкнули блокаду, и мы стали отправлять свои болванки на один из ленинградских заводов.
Началась блокада. Родители мои очень скоро умерли от голода. Да и сам я еле ноги передвигал, ходил с трудом, опираясь на палку. Как я выжил — не знаю. Но как-то выжил. Был еще молод, крепок, и организм сумел справиться с голодом. Хотя остались от меня, конечно, кожа да кости. Я и в нормальной-то жизни небольшого роста и скромной комплекции. А тогда вообще усох. И хотя мы получали рабочую карточку, да еще и усиленную — это ведь был необычайно нужный для обороны завод, — каждый день умирали от голода восемь-десять человек. У нас был специальный сарай, куда мы складывали трупы. К вечеру их отвозили в крематорий. Тогда во всех парках оборудовали крематории и сжигали в них трупы.
И знаете, у меня как-то чувства атрофировались. Люди умирали прямо на улицах, а прохожие шли мимо них, даже не пытаясь помочь. Впрочем, помочь-то было нечем. Разве что своей собственной пайкой хлеба. Но если ты сегодня отдашь свою пайку, то через день-другой сам окажешься на месте доходяги. Это было не ожесточение, а отупение чувств, психоз какой-то.
В синагогу я не ходил — не дошел бы, наш завод находился на самой окраине города. А если бы и дошел, то уже назад бы не вернулся. Но дома я, конечно, молился. Каждый день. Я не мог не молиться, одна у меня оставалась тогда надежда — на Всевышнего, на Его помощь.
Когда блокаду прорвали, мой оптический институт в 1944 году вернулся в Ленинград, и я сразу же перевелся в него. Проблем не возникло — я был специалистом, а институт принадлежал Министерству обороны.
Положение стало намного лучше, мы начали получать нормальное питание, я потихоньку пришел в себя и возобновил походы в синагогу по субботам. В 1946 году я женился. Жена моя была из провинции, ее мать поселилась вместе с нами. И поскольку обе были религиозными женщинами, то и, уже став отцом семейства, я продолжал вести тот же образ жизни, что был заведен в семье моих родителей. Хотя, как и в прежние годы, в синагоге я прятался и в разговоры ни с кем не вступал. Во дворе Хоральной синагоги у нас была хабадская синагога, и я иногда молился там. Но и в ней боялся вступать в контакт с кем бы то ни было. Тем более что вскоре наш институт перешел на выполнение суперсекретной работы, связанной с созданием советской атомной бомбы.
Впрочем, один раз меня все-таки застукали в синагоге. Один сотрудник отдела снабжения зашел в нее на праздник Шавуот. И хотя я, как всегда, стоял в тени столбов, он все-таки каким-то образом меня увидел. Беда состояла в том, что он меня увидел, а вот я его — нет. И ни о чем не подозревал. Даже когда через пару дней после праздника меня вызвали к замдиректора по кадрам. Я-то думал, что речь пойдет о каких-то производственных вопросах, а он вдруг говорит: «Я знаю, что ты был в синагоге. Меня не волнует, веришь ты в Б-га или нет, это твое личное дело. Но чтобы больше в рабочее время тебя в синагоге не было. И постарайся никому из наших сотрудников на глаза в ней не попадаться».
Я, конечно, пообещал, что ничего такого больше не случится, и на этом наша беседа закончилась. Замдиректора никому ни о доносе, ни о нашем разговоре не сказал и никаких последствий или оргвыводов не было.
 Академик И.В. Курчатов
Академик И.В. КурчатовНад этой камерой работала моя лаборатория. Это была совсем не простая задача, и ее решение заняло много времени. Нам заказали две камеры, но процесс их создания занял у нас так много времени, что к моменту первого испытания бомбы мы успели изготовить только одну. Она была в состоянии сделать всего сто снимков. Кстати, в одном институте Академии наук параллельно с нами создали фотоаппарат с выдержкой в одну миллионную долю секунды. Но он делал всего два снимка. А наш — сто!
Камера была готова, но у Курчатова долго не получалось — то одна неполадка, то другая. Наконец, к 1949 году у него дела пошли, и к нам прислали военных специалистов. Мы должны были обучить их пользоваться нашей камерой. Но потом руководство института решило — во избежание каких-нибудь сбоев или непредвиденных ситуаций, — что надо отправить на полигон под Семипалатинском, где должны были пройти испытания этой бомбы, специальную группу. И меня назначили главой этой группы, в которую входили, кроме меня, к тому времени уже кандидата, и несколько докторов наук.

Чтобы эту силу измерить и исследовать, на разных расстояниях вокруг будущего эпицентра взрыва построили специальные железобетонные башни, в которых разместили аппаратуру. Одну из таких башен отдали мне, и мы начали монтировать и налаживать в ней наш фотоаппарат. В башне по нашим указаниям сделали окно, обращенное к эпицентру взрыва. Его закрыли толстым свинцовым стеклом, не пропускавшим ультрафиолет. Это я только так, для краткости, говорю «фотоаппарат», на самом деле это было довольно сложное и большое, величиной с бочку, устройство. Настройка его занимала много времени. К тому же мы хотели быть не на сто, а на двести процентов уверены, что никаких сбоев не произойдет. За срыв работы в таком суперответственном оборонном проекте нас по головке никто бы не погладил. Я настраивал камеру — точнее, подбирал предохраняющие фильтры, по солнцу, поскольку температура солнца и температура атомного взрыва одна и та же. Потом мы подсоединяли электричество, разные датчики, делали контрольные снимки. В общем, работы хватало.
 Семипалатинский испытательный полигон (Архив Минатома)
Семипалатинский испытательный полигон (Архив Минатома)Молиться на полигоне не было никакой возможности — мы все время были друг у друга на виду. Да и особисты шныряли постоянно и за всеми приглядывали. Хотя, казалось бы, чего можно было опасаться в этом совершенно изолированном месте, к которому на сотни километров никого из посторонних не подпускали! Но, как это было принято в те времена, во всем, что касалось секретности, действовал простой принцип: «Лучше перебдеть, чем недобдеть». И бдили так, что просто шагу нельзя было свободно ступить. Даже на самом полигоне все было окутано колючей проволокой, а блокпосты стояли через каждые сто — двести метров.
Особисты не только все время за всеми следили, они буквально каждый день читали нам лекции и объясняли, сколько денег за каждого из нас могут дать американские империалисты, которые только спят и видят, как бы не допустить создания социалистическим Отечеством ядерного щита, который подорвет их атомную монополию. Нам говорили, что даже за минимальную информацию о том, что происходит на полигоне, американцы готовы отвалить миллионы долларов. Поэтому мы должны держать ухо востро, язык за зубами и сразу же сообщать, если увидим что-то мало-мальски подозрительное. Обстановка была не просто напряженная, а очень гнетущая. Ну как в таких условиях я мог молиться? Я мог только просить Всевышнего, чтобы Он дал мне возможность целым и невредимым вернуться домой.
С кашрутом тоже дела обстояли понятно как. К мясу я не притрагивался, но делал это очень аккуратно, не афишируя. Старался каждый день есть за другим столиком, чтобы мои диетарные странности не бросались в глаза соседям. Когда был рыбный день, который мои коллеги проклинали, я радовался. Но виду, понятно, не показывал, чтобы не начались расспросы: с чего, мол, ты такой веселый? Ну и, понятно, на таком полигоне хлеб, масло, гарниры всякие, каши, а летом и овощные салаты были в достаточном количестве. Так что и голодным я не оставался, и относительный кашрут соблюдать удавалось.
Атмосфера, как я уже говорил, была на полигоне напряженная. И не только из-за особистов. Мы очень переживали за дело, которому отдавали все свои силы. Мы были патриотами и хотели, чтобы у СССР побыстрей появилась атомная бомба. Но, конечно, у нас был и свой личный интерес: успешное испытание означало освобождение из этого неожиданного плена и возвращение домой.
Но вот, наконец, приехал Курчатов со своей свитой. Даже на полигоне его повсюду сопровождала плотная охрана. Пообщался с нами, расспросил о степени нашей готовности. Ну что мы могли ему сказать — по двадцать раз все уже проверено, выверено и готово к испытанию. Из расспросов Курчатова стало ясно: момент испытания не за горами.
А уж когда на полигон прибыл сам Берия, то было совершенно понятно: скоро взрыв. Про злодейства Берии мы, конечно, тогда ничего не знали. Для нас это был один из самых главных лидеров страны, окутанный зловещей тайной главы органов. И к тому же нам стало уже на полигоне известно, что он руководит атомным проектом. Но на полигоне Берия себя показал очень гуманным человеком.
 Испытание первой советской атомной бомбы. Семипалатинский полигон. 29 августа 1949 года
Испытание первой советской атомной бомбы. Семипалатинский полигон. 29 августа 1949 годаКогда приехал Берия, он выслушал доклад о готовности и сразу же спросил: «Там действительно безопасно?» Ему ответили: «Да, мы все подсчитали». А Берия начал упорствовать: «Вы можете это гарантировать? Можете дать мне письменное заверение, что с людьми ничего не произойдет?» Тот, кто отвечал за эту аппаратуру, сдрейфил и отказался подписать такую бумагу. И Берия сказал: «Если вы не можете гарантировать безопасность людей, то я запрещаю им там находиться».
А ведь аппаратура была уже вся смонтирована, проверена и отрегулирована. И стоила она бешеные деньги. Но Берия не обратил на это никакого внимания. По полигону сразу же прошел слух: «Вот какое у нас гуманное начальство, как Лаврентий Павлович заботится о простых людях!» И я, признаюсь, тоже думал, как все: «Действительно, какая у нас гуманная власть! Дорогущую аппаратуру нарком не пожалел, а людей спас». Эта аппаратура так и осталась в вырытом для нее бункере — и не сработала.
 Доклад Л. П. Берии И. В. Сталину об успешно проведенном испытании. 30 августа 1949 года (кликабельно)
Доклад Л. П. Берии И. В. Сталину об успешно проведенном испытании. 30 августа 1949 года (кликабельно)Берия лично присутствовал при взрыве бомбы. В тот момент волнение нашей группы достигло апогея — ведь никто не знал, как поведет себя камера в реальных условиях. Но все прошло благополучно. Аппаратура Академии наук не сработала, а моя не дала сбоя.
Всю ночь мы возились с аппаратом, извлекали из него пленку, потом проявляли ее. А на следующее утро к нам в лабораторию посмотреть эти снимки пришли несколько ученых во главе с Зельдовичем, ответственным за разработку всего математического аппарата атомного проекта. Понятно, что и они были строжайше засекречены, их повсюду сопровождала охрана.
Будущий академик Зельдович был маленького роста, а его охранник оказался здоровенным мужиком. Пришли они ко мне группой, а я ведь никого в лицо не знаю. А все в штатском, никаких знаков отличия. Ну, я выбрал самого представительного на вид и начал ему докладывать. Тот с умным видом стоит и слушает, не прерывает. А тут ко мне подсовывается какой-то плюгавенький мужичок и говорит: «Дайте и мне посмотреть вот тот снимок». Я ему вежливо, но решительно отвечаю: «Вы что, товарищ, не видите, что я докладываю? Когда закончу, тогда и будете смотреть».
 Академик Я. Б. Зельдович
Академик Я. Б. ЗельдовичДнем собрали всех руководителей групп, объявили, что испытание прошло успешно и вечером будет банкет с участием самого Берии. Радости нашей не было предела — заключению пришел конец! На банкете том выпили мы на радостях как следует. И кричали от всего сердца: «Да здравствует советская бомба! Да здравствует товарищ Берия!»
В конце банкета выступил Берия и очень тепло всех поблагодарил: «Вы сделали огромное дело, у нас теперь есть своя атомная бомба, и Америка больше не сможет нам угрожать. Я завтра же в Москве доложу товарищу Сталину о вашей грандиозной победе». И улетел, взяв, кстати, наши снимки.
На следующий день нас еще раз собрал представитель особистов и предупредил: «Вы скоро уедете, поэтому учтите: никогда, нигде и ни при каких обстоятельствах вы не имеете права никому даже намекнуть, где были и что делали. Говорю это для вашей же безопасности — сейчас американцы начнут охоту за всеми участниками нашего атомного проекта. Поэтому будьте бдительны».
И действительно, через неделю нас отпустили. Я поехал домой через Москву — от меня потребовали лично доложить министру оборонной промышленности Устинову, как отработала наша камера. Тому самому, который спустя много лет стал министром обороны СССР и одним из самых влиятельных членов Политбюро.
Прием у Устинова был назначен на четыре часа дня, а приехал я в Москву рано утром. И чтобы не терять зря времени, пошел гулять по центру города. Вдруг вижу вывеску: «Метрополь». Это был, пожалуй, самый знаменитый ресторан и гостиница столицы. И я решил зайти посмотреть изнутри, что же это такое — «Метрополь». Есть мне там было, понятно, нечего, но, думаю, хоть чашку кофе закажу, а тем временем посижу, посмотрю. Но не тут-то было.
Только я уселся за столик, как ко мне — еще до официанта — подходит человек в штатском и говорит: «Товарищ Лейкин, вам здесь не место. В этой гостинице проживают иностранцы, поэтому, пожалуйста, уйдите немедленно».
Ну, я, конечно, тут же встал и ушел — и поехал прямо в министерство. Устинов выслушал очень внимательно и явно был доволен. А в конце беседы сказал: «Такой успех следует отметить — думаю, вы заслужили Сталинскую премию».
И спустя какое-то время мне действительно присудили Сталинскую премию. В институте не посмотрели, что я еврей, более того, что я религиозный еврей. Руководству ведь все было прекрасно известно, и оно преспокойно могло этим воспользоваться, чтобы премию мне «зарубить». Но не воспользовалось — уж очень меня ценили, уж очень я был нужен. А уж когда в институт пришла на мое имя благодарность, подписанная лично Сталиным, то меня и вовсе чуть ли не на руках носили. И хотя такую благодарность получило все среднее звено участников атомного проекта, но личная подпись «великого вождя и учителя» производила тогда просто магическое действие.
После такого успеха мне дали в подчинение большую лабораторию. Это уже было самое настоящее признание. Шутка сказать — старший научный сотрудник, заведующий лабораторией в одном из ведущих оптических научно-исследовательских институтов страны! Я чувствовал себя на переднем крае технического прогресса и понимал, что своими работами активно продвигаю его. Но на мои взгляды об устройстве мира и о том, кто на самом деле является его Создателем и Хозяином, научные успехи и административные признания не оказали ровным счетом никакого влияния. Как и раньше, я продолжал соблюдать заповеди, молиться каждый день и ходить в синагогу.
А отношение к евреям в стране становилось все хуже и хуже. В Ленинградский университет евреям стало практически невозможно поступить: хотя процентной нормы официально не существовало, фактически принимали не более одного процента от всех абитуриентов. Да и на престижную работу в приличное место тоже стало попасть крайне затруднительно. Зачем далеко ходить: когда мой сын окончил институт, я, естественно, захотел устроить его к нам. Казалось, не может быть никаких проблем: молодой толковый парень, прекрасно завершил учебу. Но наш начальник отдела кадров, который ко мне хорошо относился, сказал прямо: «Я вашему сыну готов платить зарплату, но пусть сидит дома и в институте носа не показывает».
Моим непосредственным начальником был академик Владимир Павлович Линник, сын его тоже стал академиком — очень крупным математиком. Он вовсе не являлся антисемитом, хотя бы потому, что был женат на еврейке, но мне он как-то сказал: «Вы как завлаб можете делать все, что считаете нужным. Я вас только об одном прошу — не окружайте себя евреями».
Но я его не послушал и взял трех толковых евреев — двух кандидатов наук и еще одного доктора. Дал им и хорошую зарплату, и звание старших научных сотрудников, что по тем временам было совсем непросто. Но ничего, я все сумел пробить — тихо и без лишнего шума. При всех этих процентных нормах и поднимавшем голову антисемитизме кому-то ведь надо было работать, решать сложнейшие проблемы, с которыми мы постоянно сталкивались, так как в мою лабораторию передавали самые трудные задачи, спускавшиеся сверху в институт. И поскольку мы всегда с ними справлялись, и справлялись отлично, то в конце концов моя лаборатория превратилась в одну из самых больших в институте — в ней работали около пятидесяти человек.
Делали мы действительно вещи уникальные. Несколько групп занимались военными задачами, а я сосредоточился на гражданских медицинских приборах. К тому времени появилась волоконная оптика, и мы с ее помощью разработали сложнейшие приборы. Например, первый стетоскоп, который глотают, и он дает возможность исследовать желудок. Первые советские цистоскоп и колоноскоп тоже были созданы нами. Когда директор повез наш первый стетоскоп показать министру, он боялся, что прибор рассыплется, поскольку само волокно было еще очень непрочным. Но все обошлось, и мы наладили промышленное производство.
 На банкете в честь шестидесятилетия. Справа налево: Менахем-Мендл Лейкин, его жена Злата и сын Сергей. 1972 год
На банкете в честь шестидесятилетия. Справа налево: Менахем-Мендл Лейкин, его жена Злата и сын Сергей. 1972 годМеня отправили на завод Микояна с приказом не возвращаться, пока не будет сделан прибор. Ко мне прикомандировали главного конструктора из его проектного бюро и заперли вместе с ним в дом отдыха для сотрудников завода. Следует признать, что сразу у нас не получалось. А время поджимало: на заводском аэродроме стояли 60 «МиГов», ждущих отправки в Корею, и мы их задерживали. Директор завода даже как-то в сердцах предложил мне: «Михаил Владимирович, садись на мое место. Делай что хочешь, приказывай что и кому считаешь нужным, но чтобы прибор был».
Я в паспорте был записан как Мендель Велькович, в синагоге к Торе вызывали как Менахема-Мендла бен Зеэва-Вольфа. Но такое выговорить никто, конечно, из моих коллег по работе не мог. И все меня звали Михаил Владимирович.
Короче, бились мы, бились, пока мне не пришла в голову некая идея (подробно ее излагать сейчас нет смысла), с помощью которой мы достигли желаемого результата.
Были у меня и другие приборы, в том числе и для подводных лодок. Как-то пришлось пожить три месяца на сверхсекретной военно-морской базе. Со всеми задачами мы справлялись отлично. И все эти годы я ходил в синагогу, но прятался. Прятался. Я ведь был еще и членом партии. Среди ученых, с которыми я общался, я антисемитизма не чувствовал. Но когда институтское руководство хотело меня особо похвалить, они говорили: «Ну какой же ты еврей, ты хороший парень!»
Понятно, что с моими коллегами я никогда не вел никаких дискуссий на религиозные темы и не высказывался по этому поводу. Только один раз, когда я вычитал в одном журнале изречение Эйнштейна, что чем больше он вникает в глубины мироздания, тем больше понимает, что Вселенная не является случайным созданием, я не выдержал. Принес на работу этот журнал и дал почитать нескольким своим близким людям. Но когда они начали это обсуждать, я в спор не вступил, а только слушал. Они-то считали, что, перефразируя слова Пушкина, наука и религия — две вещи несовместные. Но вся моя жизнь доказывала прямо противоположное. Я, будучи ученым, работавшим на переднем крае научных исследований, всю жизнь прожил как глубоко верующий еврей! Так что наука и религия совместны, и еще как!
 Менахем-Мендл Лейкин женой Златой на отдыхе. 1977 год
Менахем-Мендл Лейкин женой Златой на отдыхе. 1977 годВ доме у меня всю жизнь был кашрут, соблюдали субботу и праздники. Когда я вышел на пенсию, то, конечно, бояться уже перестал. В синагогу я не ходил — это было далеко. Возле моего дома организовали миньян — времена стали уже посвободней, и я молился в нем каждый день. А когда приехал в Ленинград раввин из Америки, я стал ему помогать — я ведь знал больше, чем все остальные. По субботам я читал мафтир, а когда рав не мог — болел или был в отъезде, — я вел молитву.
Когда я в 2000 году уезжал в Израиль, он подарил мне на прощание тфилин, талит и написал письмо раввинам Израиля, чтобы они мне содействовали. Но мне никакое содействие не требовалось — пенсия у меня есть, живу я с детьми. С первого дня, как я поселился в Ришон-ле-Ционе, я хожу в наш «Бейт Хабад», участвую во всех молитвах. Единственное, чего я прошу у Всевышнего в свои 96 лет, — умереть в 119. И чтобы на моих похоронах сказали: скончался безвременно*.
*Менахем-Мендл Лейкин безвременно скончался на 99-м году жизни, в ноябре 2011 года.
Читайте также рассказ о своей жизни хабадника Нисона Йосфина.