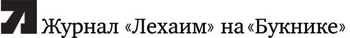//Нисон Йосфин. Израиль. 2000-е годы//
//Нисон Йосфин. Израиль. 2000-е годы//Родился я в 1922 году в городе Невеле в обычной религиозной семье. Мы не называли себя хабадниками, это здесь, в Израиле, все так говорят. Все эти аббревиатуры, сокращения напоминают мне ОТК, КГБ, ГПУ… Мы тогда не знали, что такое Хабад, а были просто хасидами, любавичскими хасидами. Отец мой из семьи Йосфин, мать — из Земцовских. Дед по матери был одним из основателей художественной школы в Витебске. Не буду рассказывать долго, что делал мой отец во имя защиты нашей веры, а делал он очень много, можете поверить мне на слово. Но, чтобы понять, откуда во мне взялось упрямство, помогавшее выжить и соблюдать заповеди в большевистской России, расскажу немного о друзьях отца.
Главным из них был реб Рефоэль по прозвищу Годл («большой»). Как-то, еще до революции, случилась у него трагедия: дочь Мира влюбилась в гоя и, чтобы выйти за него замуж, решила креститься. Она сбежала из дома и спряталась в каком-то монастыре, расположенном прямо на берегу озера. Когда реб Рефоэль узнал, где именно скрывается его дочь, он ночью запряг тройку, взял с собой пару хороших парней, одним из которых был мой отец, и помчался на санях (стояла суровая зима) к монастырю. Рефоэль был высоченного роста и обладал огромной силой. Да и мой отец, хотя был невысоким, отличался могучим телосложением. В возрасте девяноста лет он все еще гнул руками подковы.
Начали они барабанить в монастырскую дверь, но там поняли, кто они и зачем приехали, и отказались открыть. Тогда отец вышиб дверь несколькими ударами, хотя это была не нынешняя, израильская, дверь, а монастырская, сделанная из настоящего дуба.
Ворвались они в монастырь, перевернули все кельи и в одной нашли Мирку. Схватил ее реб Рефоэль, закутал в шубу, бросил в сани, и понеслись они назад, в Невель. В монастыре быстро опомнились и снарядили погоню. Даже позвали казаков из расквартированной неподалеку воинской части.
Несутся они по замерзшему озеру, погоня все ближе и ближе, вот-вот догонит. Мирка кричит: «Тате, тате, тебе ничто не поможет, делай со мной, что хочешь, я все равно вернусь в монастырь!» А казаки уже буквально им на пятки наступают. И тут они увидели прорубь, в которой крестьяне брали воду. Взял Рефоэль свою Мирку и говорит: «Ты в купель хотела — получи». И бросил ее в прорубь. Казаки такое увидели — и врассыпную… Я уж не знаю, как потом Мирку вытащили из проруби, но урок получился хороший. Вот такие у моего отца были друзья, вот в таком доме я вырос.
Ну, понятно, после ночного нападения на монастырь и увоза несостоявшейся выкрестки и реб Рефоэлю, и отцу пришлось срочно скрыться из города. К счастью для отца, его в лицо никто не запомнил. Дело происходило ночью, электричества в монастыре не было. Доказательств вины отца ни у кого не оказалось, и, когда страсти немного улеглись, он вернулся в Невель.
Уже после революции отец построил возле нашего дома личную микву. Дом у нас был большой, двухэтажный — отец удачно торговал и сколотил состояние. Стоял дом над самым обрывом, и внизу, у реки, отец своими руками выстроил каменную микву с проточной водой. Конечно, пользовался ею не только он, а все евреи города. Поскольку вода была в микве холодная, в доме постоянно кипел огромный самовар, и каждый после миквы мог напиться горячего чаю с сахаром. По тем временам это было очень большое дело — настоящий чай с настоящим сахаром.
Семья отца была зажиточной, мой дед занимал очень важную должность — управляющий большого поместья. Но когда началась революция, к отцу пришли «товарищи» и сказали: «Илья Шмеркович, вы же умный человек — отдайте свои капиталы на дело освобождения рабочего класса и идемте с нами». А он был упрямым и говорит: «Я бы пошел, но у вас нет честного слова, как я могу вам верить?» Тот, кто ему это предложил, хлопнул отца по плечу: «Ну, вы подумайте еще раз, хорошенько подумайте».
А что тут было думать, когда отец прятал у себя дома градоначальника и вместе с ним еще нескольких больших местных чинов. Если бы не он, большевики их на месте, как это тогда водилось, расстреляли бы без суда и следствия. Градоначальник и другие чины были не евреями — чистыми русаками. Но, как вспоминал отец, они были порядочные люди, делавшие много добра всем жителям Невеля. Поэтому отец их не просто спрятал, но и снабдил одеждой, деньгами, дал им лошадей и помог выскользнуть из города. За это отца и арестовали в первый раз. А когда выпустили, Ребе велел ему немедленно продать дом со всем имуществом и покинуть Невель.
 //Элияу Йосфин (отец Нисона) перед свадьбой. Невель. Начало XX века//
//Элияу Йосфин (отец Нисона) перед свадьбой. Невель. Начало XX века//Деньги у отца и тогда водились, хотя, конечно, намного меньшие, чем в предыдущие годы. Он держал механические цеха — официально, с разрешения властей. Принимал в них только наших, любавичских, ведь в этих цехах не работали по субботам и еврейским праздникам. А работы было много: отец получал заказы на нарезку болтов от Балтийского судостроительного завода и выполнял их с высоким качеством. Так что хватало на достойную жизнь для семьи и для всех гостей.
Занимался я в обычной школе, но ко мне регулярно приходил меламед и учил меня ивриту, Торе, хасидизму. Талмуд мне преподавал Шусторович — большой знаток, потом был еще один меламед — Пайкин. Эти занятия были мне в радость, к тому же отец постоянно интересовался моими успехами и устраивал небольшие, но неожиданные экзамены. А в школе я испытывал сплошные муки: каждую субботу приходилось выдерживать настоящий бой, чтобы или вообще не прийти, или так вывернуться, чтобы не писать. Была еще одна проблема: ведь в субботу нельзя ничего носить на улице. А как же быть с ранцем? И я умудрялся оставлять в школе свой ранец со всеми книгами. Но все равно старался по субботам в школу не являться — мол, заболел, спину схватило, горло обложило, руку, ногу кипятком ошпарил… Короче, сказки тысячи и одной ночи, точнее, субботы. Учителя приходили к нам домой, скандалили. Но это еще как-то можно было снести.
Самое страшное началось в 1936 году. Закрыли почти все синагоги, а возле оставшейся мы боялись даже пройти мимо. В 1936 году единственная сукка в Ленинграде была в нашем доме. Отец перехитрил всех: когда складывали во дворе дрова на зиму, он уложил штабеля буквой П, да так, что открытая часть примыкала к окну. А внутри штабелей оставили небольшое пустое пространство. Когда наступил Суккот, штабеля сверху прикрыли ветками. Получилась прекрасная сукка, в которую мы заходили из окна первого этажа флигеля. Наши любавичские хасиды целый день ничего не ели и не пили (у любавичских принято есть и пить — даже воду! — только в сукке), приходили к нам после работы и потихонечку прокрадывались в сукку.
Был у нас в доме управдом по имени Володя — русский, атеист, но замечательный человек. Он знал, что у нас постоянно жили люди, не имевшие прописки, и много раз предупреждал: сегодня могут прийти с облавой, берегитесь. И дворник у нас был просто чудесный. Чудесный! Несмотря на то, что был коммунистом. В тот Суккот они нам давали знать, если кто-то посторонний приходил в дом. И мы, конечно, тут же гасили в сукке свет и возвращались в квартиру.
 //Витебск. Кинотеатр Красной Армии на Суворовской улице (бывшая синагога). 1932 год//
//Витебск. Кинотеатр Красной Армии на Суворовской улице (бывшая синагога). 1932 год//
А отца забрали через несколько месяцев как «нежелательного элемента». Вообще, вся моя семья сидела при советской власти, и меня эта участь не минула. Меня прихватили, когда мне еще и двадцати не исполнилось.
Мой брат учился в Институте имени Ульянова, но еще и в подпольной ешиве «Тиферес бохурим». В ту ночь, когда за ним пришли, взяли всех учеников этой ешивы. Всех. Вернулся брат только спустя два года, калекой. Его так избивали в тюрьме, что у него лопнула барабанная перепонка и он потом долго отлеживался в больнице.
Брат в свое время провожал на вокзале Ребе, высланного из страны. Тот даже подарил ему на память свою фотографию. Когда к нам пришли с обыском после разгона ешивы, то перерыли все книги, а в одной из них между страниц была спрятана эта фотография. Если бы ее нашли — даже не знаю, что могло бы быть, ведь большевики считали Ребе своим злейшим врагом. Но случилось чудо: несмотря на то что во время обыска тщательно перелистывали каждую книгу, эту фотографию они почему-то не заметили.
В начале 1938 года двоюродный брат отца, реб Хони Шмулович, пришел к нам и говорит маме: «В городе нет мацы, а скоро Песах. Только у тебя в доме есть такая печь, что снаружи не будет видно, что в ней пекут. Да и флигель полностью твой, поэтому можно не бояться, что соседи донесут. Начинай печь для всех мацу — больше некому. Сделаешь, сколько сможешь, и мы ее разделим между евреями. Хотя бы кусочек, но каждому достанется». Мать ему: «Хони, о чем ты? Муж сидит, сын старший сидит. Если заловят за этим делом, то и меня упекут. Что станется с дочкой и сыном? На что ты меня толкаешь, пожалей детей!»
А он ей отвечает: «Я тебе приказываю печь, и в заслугу за то, что ты обеспечишь евреев мацой на Песах, твой муж вернется домой». Поднял он руки к небу и воскликнул: «Кто исполняет Его волю, тому Он помогает. Я уверен, Он не подведет — пеки!»
А отец сидел по страшному обвинению, в котором он к тому же признался. Ему вменили, как это было принято тогда, шпионаж в пользу Англии, Голландии и Бельгии. Чушь собачья! Бред! Глупости! Он сперва, конечно, смеялся, все отрицал, тогда его начали пытать. Он потом рассказывал: избивали нещадно — три-четыре человека сразу. Били и руками и ногами, топтали сапогами, швыряли с размаху об стену. Но он терпел, ни в чем не признавался. Лишь когда ему стали загонять иголки под ногти, отец сломался и все подписал.
Он решил: и так расстреляют, и так расстреляют, но я хоть от мук этих избавлюсь. Гитлеровцы, наверное, у НКВД учились, как с заключенными работать. Потом отец еще много лет страдал от боли в пальцах — так его эти иголки искалечили. Когда Хони к нам пришел, отец сидел по этому жуткому обвинению, вызволить его могло только самое настоящее чудо.
И моя мать начала делать мацу. Неделю печет, вторую. По ночам, в страшной тайне. И вдруг в одну такую ночь — стук в дверь. Можете себе представить, что мать испытала в тот момент. Спрятать уже ничего не успеешь — листы мацы в печке, на столе мука — производство шло полным ходом. Прибрать кухню займет не меньше часа. А в двери стучат. Хоть тихо, но настойчиво. Мать подошла к двери: «Кто там?» И слышит: «Это я, Элияу. Открой, меня выпустили!»
Тогда сняли наркома Ежова и поставили Берию. А Берия хотел показать, что он, мол, борется с «нарушениями социалистической законности и недопустимыми методами следствия», введенными Ежовым. И выпустил несколько тысяч человек.
 //Элияу Йосфин в последние годы жизни (с родственницей)//
//Элияу Йосфин в последние годы жизни (с родственницей)//В ту же ночь к отцу пришла целая делегация из синагоги. И показали ему письмо, пришедшее из лагеря, — от одного из друзей отца, праведника, как он говорил. У меня до сих пор слезы наворачиваются на глаза, когда я вспоминаю, как они ему это письмо читали.
А было в нем написано вот что: «Я знаю, что скоро умру, и меня закопают на тюремном кладбище. Моя последняя просьба — чтобы меня перезахоронили на еврейском кладбище в соответствии со всеми нашими обрядами и прочитали над могилой кадиш. Я знаю, что это и трудно, и опасно, но обещаю: за того, кто это сделает, я буду просить милость перед Владыкой мира». Прочитали они это письмо отцу и говорят: «Несколько дней назад мы получили известие, что он уже действительно скончался и лежит на тюремном кладбище». Отец аж подскочил с кровати: «Я это сделаю!» Представляете, он ведь еще одежду свою тюремную снять не успел!
И спустя короткое время отец поехал в этот лагерь. Где он точно располагался, я не помню, где-то на севере, на Кольском полуострове. Добрался он до начальника лагеря, который оказался относительно приличным человеком, — случалось и такое, — и объяснил: «Я двоюродный брат одного вашего заключенного, который недавно скончался. И мне он все время во сне приходит, просит, чтобы я навестил его могилу и прочел по нему заупокойную молитву. Будьте добры, разрешите, укажите, где эта могила». Тогда ведь как хоронили на этих кладбищах: воткнут в могильный холмик палку с дощечкой, а на ней номер. И только. Даже имя у людей советская власть отнимала. И тут случилось еще одно чудо: начальник лагеря дал команду, вертухаи поискали в своих книгах, нашли фамилию друга отца и номер, под которым его захоронили. А дальше все уже было просто: кладбище ведь находилось за пределами зоны, и вход туда был свободный.
В тот же день отец отправился на кладбище, разыскал могилу и хорошенько запомнил ее расположение. Он вообще обладал феноменальной зрительной памятью. Ночью он прокрался на это кладбище, вырыл тело своего друга, заровнял холмик, положил тело в мешок и был таков. Я уже говорил, что он обладал недюжинной физической силой, поэтому унести изможденное тело в мешке для него не составило никакой проблемы.
 //Слева направо (стоят): Нисон Йосфин, его брат Лев, сестра Фаня. Сидят: Элияу Йосфин, старшая внучка Софа, жена Элияу Зисла, старшая дочь Рая. Ленинград. Начало 1950-х годов//
//Слева направо (стоят): Нисон Йосфин, его брат Лев, сестра Фаня. Сидят: Элияу Йосфин, старшая внучка Софа, жена Элияу Зисла, старшая дочь Рая. Ленинград. Начало 1950-х годов//
Перед войной и меня забрали — не из-за религии, а по чисто экономическим делам. Но благодаря этому я не оказался в блокаде. Осудили меня, но до зоны я так и не доехал — всех, кто вызвался добровольцем, отправили на фронт. Я тоже вызвался и попал в 46-ю дивизию, 228-й полк. Тогда еще не было такого понятия — штрафные батальоны, но полк этот, сформированный из одних заключенных, посылали в самые гиблые места на фронте, откуда никто не возвращался. А я выжил, царапины не получил, хотя участвовал в страшных боях.
Половина полка полегла, остатки отозвали на переформирование, а меня приписали к флоту. Освоил я специальность звукометриста, занимался расшифровкой разведывательной информации. Служил на нескольких эсминцах, а на Северном флоте у моряков была общая судьба: если корабль утонул, то погибали все, выжить в холодной воде было невозможно. А не утонул — все живы. В корабли, на которых я ходил, не попала ни одна бомба, хотя обстреливали нас — не приведи Г-сподь! В составе морского десанта я не раз высаживался на берег, участвовал в боях. Самый страшный был на Чертовом острове. Когда мы только подходили к нему и увидели, что там творится, стало понятно: живыми оттуда вернутся немногие. А я вернулся — целый и невредимый! Во флоте я прослужил до самого конца войны и демобилизовался в 1946 году.
В 1948-м я работал завскладом. И ко мне обратились наши евреи: «Нисон, это же у вашей семьи традиция — печь евреям мацу. Скоро Песах, а мацы ни у кого нет. Помоги». А как тут поможешь — времена стояли голодные, муку не достать. Какую уж тут мацу печь? Но мне говорят: «Пеки! В тридцать восьмом году твоя мать пекла, теперь твоя очередь».
Ну, муку я достал. Придумал сложную, многоходовую комбинацию: мельница списывала муку на пекарню, пекарня — на булочную, а та, в свою очередь, отчитывалась о продаже хлеба и сдавала деньги государству. Но все это было только на бумаге. А в действительности муку прямо с мельницы забирали мои люди и везли в оборудованный мной подпольный цех, где пекли мацу. Развернулся я на широкую ногу, построил этот цех в Ижорске, на кладбище, так что никто ничего долгое время узнать не мог. Из цеха маца расходилась по нескольким моим подпольным складам, а оттуда уже мы продавали ее евреям. И так я крутился около двух месяцев, пока не докрутился.
 //Нисон Йосфин (справа) с приятелем во дворе своего дома под Ленинградом//
//Нисон Йосфин (справа) с приятелем во дворе своего дома под Ленинградом//Последнее слово я держал два часа. Из обвиняемого превратился в обвинителя. «Доказано, — говорил я, — что никакой прибыли я не получил. Так что же я и у кого украл? Муку мы брали, это верно. Но население получило продовольствие из этой муки? Получило! И государство получило деньги за испеченный из этой муки товар? Получило. Так где же “хищение в особо крупном размере”? Что я у кого украл? Просто сделал из муки не хлеб, а мацу! Более того, за всю работу, а это была совсем не маленькая головная боль, я себе ничего не взял! В чем же моя вина?»
Но срок мне дали и отправили по этапу. Как сейчас помню, поезд уходил с Витебского вокзала. Посадили меня в «столыпин». Но поскольку я планировал побег, по-видимому, кто-то из сокамерников уже успел стукнуть, и мне предоставили «царские» условия — отдельное купе. А возле него для большей надежности поставили часового.
Сперва попал я в пересыльную тюрьму в Москву. Она находилась на Красной Пресне, сейчас ее уже нет. Зашел в камеру, достаю папиросы «Тройка»: «Угощайтесь, ребята». Они закурили и спрашивают: «Ты по какой статье?» Я им как сказал, они обрадовались: «Так ты наш!» А в Питере я одно время находился в камере с авторитетом по кличке Сашка-интеллигент. Он получил ее за то, что никогда не матерился. Ну и, конечно, я сразу развиваю успех: «Привет вам, мужики, от Сашки-интеллигента. «А, — говорят, — Сашка жив! Спасибо, присаживайся в наш уголок». Вот так мне повезло, и унижений, которые обычно испытывали в тюрьме евреи, тем более религиозные, я избежал.
Более того, то, что я оказался в компании с блатарями, мне потом весь срок помогало. В той же тюрьме у меня случился опасный инцидент. Камера была хоть и небольшая, но набили в нее больше двухсот человек — нары в три-четыре этажа. Я вместе с блатными сидел наверху. А одного мужика заело, что я, еврей, да еще новенький, сразу получил привилегированное место. Слез я через пару дней с нар, беру в руки свой ботинок и чувствую — воняет ужасно. Кто-то мне в этот ботинок наделал. «Чья работа, паскуды?» — спрашиваю. А этот мужик с издевкой: «Нечего из себя цацу строить, надевай как есть, морда жидовская!»
Ну, вижу, выхода у меня нет, надо давать бой. И началась драка. Дружки его на меня кинулись, но тут и блатные подскочили — наших бьют. Образовалась куча-мала, камера ведь была маленькая. Но я до своего врага все же добрался и чуть глаза ему пальцами не выколол. И с тех пор никто ко мне не подходил, а слава по всему этапу пошла.
 //Нисон Йосфин в Израиле. 1974 год//
//Нисон Йосфин в Израиле. 1974 год//Увидел меня, спрашивает: «Откуда?» — «Питерский». — «За что?» — «Девяносто пятая». — «Сколько дали?» — «Червонец». Он похлопал рядом с собой по подушке: «Садись». Я сел. Он спрашивает: «Хавать хочешь?» — «Да, а что есть?» Он удивился: «Все есть». А я объясняю: «Я ведь все не ем. Мясное не ем». Он сразу все понял, улыбнулся и приказывает: «А ну, мандрычник*** сюда! И с маслом, живо».
Начал я есть, а он со мной уже на идише разговаривает, что да как. Я осмелел и тоже его спрашиваю: «Откуда а ид?» Оказалось — из Могилева. И он мне говорит: «Мой папа был ганеф , мой дед был ганеф, мой прадед был ганеф». А я ему в тон отвечаю: «Я тоже могу тебе похвастаться: мой батя сейчас сидит, мой брат тоже на зоне, и я знаком с тюрьмой с шестнадцати лет».
Он это услышал и воскликнул: «О, да ты у нас в законе!» Я отвечаю: «Ну, в законе не в законе, но по субботам не работаю, пусть хоть застрелят!» А он мне: «Да ты вообще работать не будешь!» И дал команду по лагерю, чтобы я не работал. Это было самое настоящее чудо, огромное чудо. Но факт: в этой зоне я не работал, и так оно за мной и закрепилось. Поэтому сколько раз я потом ни сидел, субботу и праздники ни единожды не нарушил!
Но на этом наш разговор не закончился. Я поинтересовался, есть ли в лагере еще евреи. Оказалось — много. И я говорю: «Завтра вечером наступает Рош а-Шоно, надо бы собрать миньян, я могу быть баал тфиле*» . И Костя вдруг растрогался: «Знаешь что, мы же все-таки евреи. Я распоряжусь, чтобы послезавтра у евреев был банный день. А вы вместо бани сможете молиться, начальник бани сделает вид, что ничего не знает и не слышит».
Ну, раз такое дело, начал я по зоне бегать и говорить евреям: «Идн, завтра вечером приходите в баню, есть миньян на Рош а-Шоно!» Но недолго я пробегал, меня заложил один еврей из Питера. Вызвал меня к себе начальник надзора и этак спокойненько объявил: «За подобную наглость — устроить в лагере синагогу — я открыл на тебя дело. Так что ты теперь у меня на крючке».
Но я ведь упрямый, как отец. И снова пошел к Косте: «Дай хотя бы команду, чтобы на Йом Кипур те, кто постится, могли бы не работать». Он говорит: «Ты что, еще червонец себе намотать хочешь?» А я отвечаю: «Червонцем больше, червонцем меньше, я все равно тут не останусь, дрисну . А если в Йом Кипур евреи благодаря мне поститься тут будут, мне это сверху ох как зачтется».
Посмотрел он на меня, махнул рукой: «Черт с вами, кто хочет — пусть постится. Но чтобы работали, я в твои сумасшедшие игры не играю». А Костино слово было закон: если он сказал, чтобы евреи в этот день постились, так никто нарушить не осмелился. И они таки постились. После этой истории меня стали называть лагерным раввином.
Как-то раз получаю я письмо от мамы, с ее фотокарточкой. И пишет она: «Нисон, я себя очень плохо чувствую, видимо, пришло мое время. Но перед смертью хочу тебя увидеть». А у меня в зоне был приятель — медвежатник*** по фамилии Марков. Очень хороший человек, очень! И культурный, интеллигентный, ничего не скажешь — не матерился, не напивался, не буянил. Он мне и говорит: «Я слышал, что вышел новый закон: кто две трети срока уже отсидел, могут досрочно освободиться по ходатайству начальника лагеря. Пять лет ведь тебе скостили? Скостили. Три года ты уже отсобачил? Отсобачил. А говорят знающие люди, что наш начальник лагеря, хоть и имеет фамилию Полонский, вовсе не из поляков, а из ваших. Иди к нему и попытай счастья, авось получится».
В тот же день я и записался на прием к начальнику лагеря. Через несколько часов появился в нашем бараке солдат, выкрикнул мою фамилию и приказал: «Ты вызван в восьмой кабинет, следуй за мной». А восьмой — это вовсе не кабинет начальника лагеря. В то время многих отправляли в шахты, откуда почти никто не возвращался. Я и подумал: «Вот и все, вот и конец. Думал их всех на мякине провести — мол, по личному делу. А они и решили показать мне личное дело в забое».
Восьмой кабинет оказался огромным, с длиннющим столом, крытым красным сукном. В центре сидит за столом офицер — маленький, плюгавый. Но физиономия у него — еврейская, пробы негде ставить. И грозно меня спрашивает: «Ты зачем на прием просился, что надо?» «Мне лично, — говорю, — абсолютно ничего не надо. Но вот, посмотрите на эту фотокарточку».
Показал ему фото матери, а на обратной стороне надпись на идише. Я и говорю: «Вы, конечно, не понимаете, что тут написано, но я вам, гражданин начальник, сделаю точный перевод. Это пишет наша мама. Наша! Она хочет перед смертью меня увидеть. А говорят, теперь статья такая вышла, что по ходатайству начальника лагеря тем, кто половину срока отбыл без нарушений дисциплины, можно срок этот на условно-досрочное переменить».
Он как заорет: «Что? На свободу просишься? Досрочно? Вон отсюда! Вон!»
Я фотографию в ватник запрятал, поворачиваюсь и говорю: «Это не я прошу. Это наша еврейская мама просит».
А он еще громче и кулаком по столу: «Пошел вон!»
Я развернулся по-флотски, через правое плечо, даже ногами щелкнул — и был таков.
Прошло время, полмесяца или месяц. За шесть дней до Песаха снова приходит в наш барак вертухай: «Следуй за мной!» Привел в кабинет, не помню в какой, но точно не в восьмой. Там сидит капитан госбезопасности и этак вежливенько мне предлагает: «Садитесь, пожалуйста».
«Э, — думаю, — плохое начало! Это только с покойниками в лагере так культурно общаются. Сейчас он мне так же вежливо предложит расписаться, что меня ознакомили с указом о переводе в шахты. И — прости-прощай, Ниске! Не видать тебе ни мамы, ни белого света!»
А капитан действительно вынимает из папки лист, на котором что-то напечатано на машинке и внизу большая печать красуется. Ну, все понятно: приказ о переводе. А он мне спокойно объявляет: «Гражданин — теперь уже товарищ — Йосфин! По представлению начальника лагеря и ходатайству лагерной коллегии в Верховный Совет СССР решено освободить вас досрочно. Завтра в восемь часов утра будьте готовы со всеми вещами. Местом вашего жительства определен город, где вы проживали до ареста, — Ленинград».
Ворвался я в свой барак и кричу: «Ребята, свобода!» А они так посмотрели на меня жалостливо: мол, все — уже готов, мозгами бедняга тронулся. А я кричу: «Да нет, нет, меня по условно-досрочному!» — и давай Маркова целовать!
Вышел я в восемь утра, сажусь в машину и вдруг вижу: на крыльцо выходит тот самый, из восьмого кабинета. Посмотрел на меня, махнул рукой и крикнул: «Йосфин, чтобы я тебя здесь больше никогда не видел!»
В начале шестидесятых годов отец организовал миньян для тех, кто не мог ходить в синагогу. То ли далеко им было идти, то ли просто боялись. Мы собирались на первом этаже двухэтажного домика, стоявшего на самом берегу Финского залива — метрах в пятидесяти от воды. В будние дни миньян собрать было невозможно, но по субботам приходило довольно много народу. Шалиах цибур, кантор, у нас был известный певец, солист Мариинского театра Файвл Зубцов. Ну как он мог открыто появиться в синагоге — его бы из Мариинки вышвырнули на следующий, да что там на следующий — в тот же день! Но к нам Зубцов приходил. Мы получали огромное удовольствие от его голоса, а он, наверное, не только от молитвы, но и от общения и хасидского застолья. Мы ведь всегда после молитвы устраивали кидуш, а потом фарбренген: говорили диврей Тойре, учили маамарим наших Ребе, так что заканчивали не раньше двух часов дня.
Первый раз, когда сделали облаву на этот миньян, где-то уже в середине шестидесятых годов, все закончилось благополучно. Пришел милиционер, постучал в дверь и крикнул: «Я знаю, что у вас тут подпольное религиозное сборище. Предупреждаю: если такое еще раз повторится, будете нести ответственность». И ушел. Ну, понятное дело, какое-то время миньян не собирали, надо было переждать.
После этого у меня еще много чего в жизни случилось, но пока не пришло время рассказывать. В Израиле я оказался в 1971 году, как только начался выезд и мы поняли, что любавичских тоже выпускают. И меня отпустили. Что тоже можно расценить как чудо из чудес — до сих пор не понимаю, как это произошло.
Сейчас, на старости лет, я часто думаю: почему у меня все так получилось — возле огня ходил столько раз, а не обжегся? Понятно: би-зхут авот («в честь заслуг отцов») — моих предков, святых людей. И конечно, отца — в том числе и за то, что перезахоронил того еврея, который просил за нас перед Всевышним.
И еще, я думаю, потому все снаряды мимо меня пролетели, что я упорным был. Прожив большую часть своей жизни в большевистской России, я ни разу — ни разу! — не работал в шабат и по праздникам. Я был упрямым в исполнении Его воли, и Он меня упрямо от всего охранял. Даже тогда, когда мне казалось, что грехов на мне так много, что я ничего не заслуживаю! Поэтому не надо брать на себя такие решения — кто, чего и сколько заслуживает. А надо просто жить в соответствии с Его заповедями и честно, сколько сил станет, выполнять их.
* Нисон Йосфин не дожил до публикации этого текста, он скончался год назад, в месяце ияр 5771 года.
Габай — староста еврейской общины или синагоги, ведающий организационными и денежными делами.
* Хлеб (жарг.).
Ганеф (жарг.) — искаженное ивритское «ганав» — «вор».
* Бааль тфила (ивр.) — человек, ведущий общественную молитву.
Сбегу (жарг.).
* Вор, специалист по кражам со взломом (жарг.).
Слова Торы» (ивр.).