В издательстве Grundrisse вышла книга крупнейшего религиоведа XX века Гершома Шолема «Вальтер Беньямин — история одной дружбы». Это перевод с немецкого языка одной из важнейших автобиографических работ о его близком друге, одном из основателей Марбургской школы. Дружба эта длилась более 25 лет и оборвалась только с трагической гибелью Беньямина в 1940 году. Центральная связующая тема этого интеллектуального союза – попытки понимания и интерпретации творчества Франца Кафки.
Публикуем сегодня два небольших фрагмента из последней главы воспоминаний, которая называется «Годы эмиграции. 1933–1940». В первом фрагменте Гершом Шолем, с неодобрением отзываясь о марксистских увлечениях Беньямина, излагает его учение о языке, которое философ разрабатывал всю свою жизнь. Это учение близко к шолемовскому мистическому пониманию языка.
Второй фрагмент строится вокруг письма г-жи Гурлянд, жены сотрудника Хоркхаймеровского института, на руках которой Беньямин умер 27 сентября 1940 года. Он покончил жизнь самоубийством, тем самым избежав отправки в концентрационный лагерь.
I
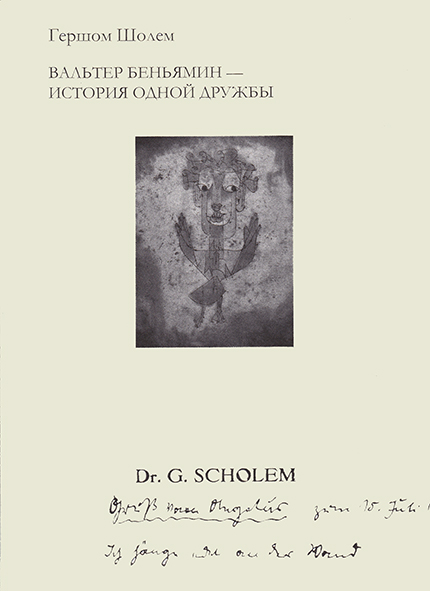
«Дорогой Герхард,
не то чтобы мне не хватает выдержки, но бывают часы, когда я не уверен, встретимся ли мы ещё раз. Уж на что Париж — город мира, но он стал таким хрупким, а если правда то, что я слышу о Палестине, то там дуют такие ветры, от которых даже Иерусалим колеблется, как тростник. (Об Англии я думаю, что вот уже несколько лет её политика определяется уверенностью в том, что Сommonwealth перестанет существовать через первые двое суток серьёзной войны.) Возвращаясь к нашей встрече, иногда я воображаю её себе — только чтобы удержаться за её образ — как в бурю касание двух листьев с разных деревьев, отдалённых друг от друга»…
Летом 1937 года я получил приглашение в Нью-Йорк прочесть лекции о результатах моих исследований по еврейской мистике; курс лекций должен был начаться в конце февраля 1938 года. Так мы, наконец, смогли конкретно очертить контуры свидания. Я полагал, что по дороге в Нью-Йорк встречусь с Беньямином на совсем короткое время, а затем, летом 1938 года, встреча будет более продолжительной…
Я не видел Беньямина одиннадцать лет, и он изменился за это время. Стал шире, держался чуть небрежнее, а его усы стали более густыми. В волосах появилась заметная проседь. Мы много говорили о его работе и принципиальной позиции, но, конечно, и о тех предметах, которые в письмах не затрагивались. Так, его заметка по философии языка «Миметическая способность», которой Вальтер очень дорожил и жаловался на отсутствие моей реакции, стала для меня ясной и значительной лишь в этом разговоре. Но в центре наших бесед стояла его марксистская ориентация. В 1927 году этот вопрос, от которого Беньямин уклонялся как от не созревшего для обсуждения, всё же не вызывал личных напряжений. В 1938 году дела обстояли иначе. Между этими временами пролегли годы, тяжело нагружённые политическими событиями, прежде всего, в России и Германии, и нам было непросто друг с другом…
Вокруг отношений Беньямина с его собратьями-марксистами — в Париже это стало мне очевидно — витала некая неловкость, связанная с приверженностью Вальтера к теологическим категориям…
Когда мы смогли дискутировать, на первый план сразу вышла работа о произведении искусства. Я анализировал то, что понимал в ней и находил столь же великолепным, сколь и сомнительным. Я обрушился на понятие ауры, которое, на мой взгляд, было искажено псевдомарксистским контекстом, так как Беньямин долгие годы употреблял его в совершенно ином смысле. Его новое определение этого феномена — утверждал я — представляет собой, с логической точки зрения, уловку, позволяющую ему протаскивать метафизические взгляды в не соответствующие им рамки. Но прежде всего я критиковал вторую часть, в которой совершенно надуманная и никуда не годная философия кино как революционной формы искусства пролетариата не имела внятной связи с первой частью. Беньямин упорно отстаивал свою позицию. Его марксизм-де имеет не догматический, а эвристический, экспериментальный характер, а перевод метафизического и даже теологического хода мыслей, который развился у него в наши совместные годы, на марксистские рельсы является чуть ли не заслугой, так как марксистские перспективы смогли раскрыть именно там бóльшую жизненность — по крайней мере, в наше время — чем в первоначально отведённой для них сфере… Он сказал: «Не замеченную тобой философскую связь между двумя частями моей работы революция докажет эффективнее, чем я». Но если в эту революцию не веришь, то на это вряд ли можно было что-то возразить…
В этой беседе я полностью осознал поляризацию в языковом восприятии Беньямина. Ибо та ликвидация магии языка, которая соответствовала материалистическому взгляду на язык, безошибочно опознавалась в напряжении по отношению ко всем его ранним рассуждениям о языке, черпавшим силу из теолого-мистического вдохновения; эти ранние рассуждения он ещё сохранял и даже развивал в заметках, которые читал тогда мне вслух, а также в работе о миметической способности. То, что я ни разу из его уст не слышал ни одной атеистической фразы, конечно, не было для меня удивительным — в особенности после некоторых писем ещё из тридцатых годов, — но меня поразило, что он до сих пор мог говорить о «Слове Божьем», в отличие от человеческого слова, совершенно не метафорически, называя его основой всякой теории языка. Различие между словом и именем, которое Вальтер за двадцать лет до нашей парижской встречи положил в основу своей работы о языке 1916 года и продолжал развивать в предисловии к книге о барочной драме, всегда оставалось для него живым, и в его заметке о миметической способности по-прежнему отсутствуют малейшие намёки на материалистический взгляд на язык. Наоборот, материя представала там лишь в сугубо магических взаимосвязях. Очевидно, Беньямин разрывался между симпатией к мистической теории языка и столь же сильно ощущавшейся необходимостью преодолеть мистику ради марксистского мировоззрения. Я заговорил с ним об этом, и он согласился, что нисколько не преодолел данное противоречие. Это было в разговоре о задаче, которую Вальтер ещё не осилил, но от исполнения которой многого ждал. Его «лик Януса» до сих пор живейшим образом давал о себе знать…
В другой раз мы говорили об антисемитизме. Когда я приехал в Париж, прилавки книжных магазинов были на каждом шагу «украшены» только что вышедшей книгой Селина Bagatelles pour un massacre. Это был разнузданный антисемитский памфлет объёмом в шестьсот страниц, который я, будучи с незапамятных времён внимательным читателем антисемитской литературы, тут же приобрёл — хотя мой французский не позволял мне понять и половины вульгарного лексикона автора. Книга стала сенсацией. То, что нигилизм Селина нашёл естественный объект ненависти в евреях, наводило на раздумья. Беньямин книги пока не читал, но не питал никаких иллюзий о масштабе антисемитизма во Франции. Он рассказывал, что литературно влиятельные почитатели Селина не хотели высказываться о книге — с таким объяснением: «Ce n’est qu’une blague»; в дальнейшем оказалось, что это было ничем иным, как грандиозным фарсом. Я пытался объяснить Вальтеру несерьёзность такого бегства к безответственной фразе. Он сказал, что собственный опыт убедил его в том, что латентный антисемитизм распространён даже в кругах левой интеллигенции и что очень немногие неевреи так сказать, физически от него свободны. Он цитировал примеры, которые мне стыдно тут приводить, но я хорошо их запомнил...
Несмотря на такие рассуждения и опыт, глубокая симпатия Беньямина к Франции осталась непоколебимой — на фоне этой симпатии бросалось в глаза несомненное отчуждение и даже антипатия к Англии и Америке. Он ещё тогда сказал мне, что уже более не в состоянии приспосабливаться. Это обременённое чувствами колебание сыграло свою роль в провале нескольких попыток вовремя переправить его в Англию или Америку. Его бывшая жена Дора рассказала мне в 1946 году, что в 1939 году она тщетно пыталась уговорить его уехать с ней в Англию, где она — после принятия антисемитского законодательства в Италии — собиралась строить новую жизнь. Он тогда привёл ей те же основания против «пересадки» на чужую почву...
II
…О его самочувствии в эти месяцы до и после бегства из Парижа я узнал только в 1941-м и 1942-м годах благодаря письмам от Адорно и Ханны Арендт. После всего здесь рассказанного очевидно, что Вальтер часто рассматривал возможность самоубийства и готовился к нему. Он был убеждён, что ещё одна мировая война будет означать газовую войну и тем самым положит конец цивилизации. И то, что произошло после перехода через испанскую границу, было не внезапным поступком, напоминающим короткое замыкание, а давно вызревало у него в душе. При всём удивительном терпении, которое Беньямин демонстрировал после 1933 года и которое связывалось с высокой выносливостью, он оказался недостаточно стойким для событий 1940 года. Ещё в сентябре он не раз говорил в Марселе Ханне Арендт о намерении покончить с собой. Единcтвенное подлинное известие о событиях, связанных с его смертью, содержится в подробном сообщении, написанном госпожой Гурлянд, перешедшей вместе с ним границу; письмо написано 11 октября 1940 года к Аркадию Гурлянду, сотруднику хоркхаймеровского Института. Копию этого письма я получил в 1941 году от Адорно.
(Из письма г-жи Гурлянд от 11 октября 1940 года:)
«…Ты, конечно, уже слышал, чего мы натерпелись с Беньямином. Он, Хосе и я вместе покинули Марсель, чтобы ехать дальше. В М. я с ним подружилась, и он нашёл, что я подхожу ему в спутницы. На пути через Пиренеи мы встретили Бирман, её сестру, г-жу Липман и Фройнд из “Тагебуха”. Для всех нас эти 12 часов были неимоверным напряжением. Дорога незнакомая, иногда приходилось карабкаться на четвереньках. Вечером мы пришли в Порт-Боу440 и зашли в жандармерию, чтобы вы просить въездной штемпель. Четыре женщины и мы трое просидели целый час, рыдая и умоляя чиновников и показывая наши документы, которые были в полном порядке. Все мы были sans nationalité, и нам сказали, что несколько дней назад вышел указ, запрещавший людям без гражданства проезжать через Испанию. Нам позволили провести ночь в отеле, soi-disant под охраной; к нам приставили трёх полицейских, которые должны были наутро сопроводить нас до французской границы. У меня не было других документов, кроме американских; для Хосе и Беньямина это означало отправиться в лагерь. Итак, все мы в крайнем отчаянии пошли в наши комнаты. В 7 часов утра г-жа Липман позвала меня вниз: дескать, меня зовёт Беньямин. Он сказал мне, что в 10 часов вечера принял колоссальную дозу морфия и я должна попытаться представить дело как болезнь; он передал письмо ко мне и к Адорно Т.В… [sic!]. Затем потерял сознание. Я позвала врача, который констатировал апоплексический удар, а на моё настоятельное требование препроводить Беньямина в больницу, т. е. в Фигерас, снял с себя всю ответственность за это, так как Беньямин-де был уже при смерти. Я провела целый день с полицией, мэром и судьёй, которые проверили все документы и нашли письмо к доминиканцам в Испании. Мне пришлось сбегать за кюре, и я молилась вместе с ним на коленях целый час. Я страшно боялась за Хосе и за себя, пока на следующее утро не было выписано свидетельство о смерти.
Как уже сказано, жандармы увели четырёх женщин утром в день смерти Беньямина. Меня и Хосе они оставили в отеле, так как я приехала с Беньямином. Итак, я находилась там без visa d’entrée 444 и без таможенного досмотра, который был проведён впоследствии в отеле. Ты знаешь Бирман и можешь судить о нашем состоянии, если я расскажу тебе, что она и другие подошли к границе, отказались проследовать дальше и тем самым, разумеется, объявили, что согласны идти в концентрационный лагерь в Фигерас. Я в это время находилась в жандармерии с заключением врача, и на их начальника большое впечатление произвела болезнь Беньямина. Так четырём женщинам проставили штемпель (были заплачены деньги, и немалые). Я получила его на следующий день. Мне пришлось передать все бумаги и деньги судье и поручить ему послать всё в американское консульство в Барселоне, куда позвонила Бирман. (Его сотрудники отказались за нас постоять, несмотря на все объяснения.) Я купила могилу на пять лет и т. д. На самом деле я не могу описать тебе ситуацию точнее. Во всяком случае, дела сложились так, что мне пришлось уничтожить письмо Беньямина к Адорно и ко мне после того, как я его прочла. Там было пять строчек, где говорилось, что он, Беньямин, больше не может, не видит никакого выхода и поручает мне рассказать о его судьбе — в том числе и его сыну».

Много лет спустя на одном из двух кладбищ (на том, которое видела Х.Арендт) в отдельном деревянном ограждении показывалась (и будет показываться) могила Беньямина с его именем, вырезанным по дереву. Имеющиеся у меня фотографии отчётливо указывают на то, что эта совершенно обособленная, полностью изолированная от настоящих склепов могила представляет собой изобретение кладбищенских сторожей, которые хотели обеспечить себе чаевые, так как многие спрашивали, где похоронен Беньямин. Посетители, которые там бывали, подтверждали моё впечатление. Место, конечно, прекрасное; могила — апокрифична.












