Париж – Монмартр, цветущие каштаны, кабаре «Крозери де Лила», художники в беретах и богемный их приют — знаменитый «Улей» папаши Буше… Разве может быть что-то общее между этим пестрым, романтическим миром и русскими, польскими, литовскими городишками с их подслеповатыми домами, невежеством, местечковой затхлостью? Как говорил знаменитый художник Хаим Сутин:
Когда живешь в такой грязной дыре, как Смиловичи, нельзя и вообразить себе, что существуют такие города, как Париж. Представьте себе, что я в своем местечке — я, который сегодня так любит Баха, — даже не подозревал о существовании фортепиано.
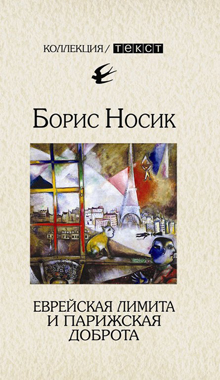
Герои новой книги Бориса Носика — 30 художников, выходцев из Российской Империи, обитателей парижского «Улья» начала ХХ – гостеприимного пансиона, открытого скульптором Альфредом Буше из чистой благотворительности. Самые объемные, конечно же, истории — о самых признанных авторах, изменивших само представление об искусстве — живописцах Марке Шагале и Хаиме Сутине, и скульпторе Осипе (Иоселе) Цадкине. Однако «еврейская лимита» – не только они, но и другие художники, не так хорошо известные, но яркие, с узнаваемым индивидуальным почерком и оригинальным взглядом на мир.
Лазарь Воловик, сирота из Кременчуга, сквозь гражданскую войну и разруху добравшийся в Париж через Севастополь и Стамбул.
…его «ню»… печальны, и если не трагичны, то во всяком случае — драматичны. Иные из критиков говорят, что эта неизбывная жалоба идет от иудейства, другие — что она идет от русской прозы, с которой Воловика часто сближают (скажем, с чеховской драматургией). А может ведь она идти, эта жалоба, и от травмы проклятого века. Разве выбьешь из памяти бегство из Крыма, тяжкий стамбульский год, тайное путешествие в трюме парохода…
Самюэль Грановский, «ковбой» из Екатеринослава, искатель счастья, попавший в Париж как будто со страниц Джека Лондона.
Конечно, дома, в былом Екатеринославе (нынешнем Днепропетровске) и потом в одесской «художке», его звали не Ковбой, не Грано и даже не Сэм, а просто Хаим, но раз человеку хотелось быть Сэмом, носить на Монпарнасе ковбойскую шляпу и сапоги, кто мог запретить ему это в свободном Париже. Он уже и с Великой войны вернулся отчего-то в галифе жандарма. Затем слонялся по Америке, ездил на заработки, снимался в вестерне — не разбогател… А потом вот ходил по Монпарнасу в ковбойской шляпе, в кожаных штанах, с лассо на поясе, словно там не шлюхи бродили, а необъезженные кобылы или мустанги&&.
Живописец и скульптор Хана Орлова. В отличие от прочих «лимитчиков», она приехала во Францию не из России, а «из-под Яффы, из Палестины, куда ее семья бежала еще в 1904-м (после знаменитого кишиневского погрома)». Многие из обитателей «Улья» быстро забыли о своем местечковом происхождении и евреями себя вообще не считали — но не Хана Орлова. Она всю жизнь была предельно внимательна к родной культуре, ее вдохновляли библейские сюжеты, иудейский фольклор и детские воспоминания. «Вообще, любимыми ее героями были дети, женщины с детьми и евреи. Она создала целую галерею “замечательных евреев”».
Хана Орлова известна как художник-анималист, и работы ее полны любви и нежности ко всему живому. Две ведущие темы творчества Ханы Орловой неожиданным образом переплелись в конце ее жизни:
&&Известная портретистка Хана Орлова создавала памятники погибшим израильским героям. Но тамошние религиозные правила не разрешали устанавливать человеческие фигуры, и Хана вернулась к животным. На памятнике известному герою-террористу Дову Груннеру в Рамат-Гане борются два льва — большой британский и маленький израильский. Еще чаще на этих памятниках птицы — орлы, соколы, альбатросы…
Невозможно определить жанр книги Бориса Носика. Анекдоты из жизни великих перемежаются серьезными искусствоведческими выкладками, жизнеописание одного художника оказывается вставной новеллой в истории другого. Иногда автор вообще сворачивает в сторону и рассказывает о том, как гулял по Парижу или ездил по советскому бездорожью «на историческую родину» – в те самые Смиловичи, где, как говорил Хаим Сутин, «даже не подозревают о существовании пианино». В советские времена там мало что изменилось – «домишки были все те же, крошечные — в три, а то и в два окна», – только вот евреев почти не стало.
В конце кладбища стояло большое надгробие — гипсовая отливка, скульптурная группа в стиле Буше, как в городских парках культуры. На пьедестале было написано, что в одно прекрасное октябрьское утро 1941 года гитлеровцы убили здесь, на кладбище, две тысячи «советских граждан», жителей местечка Смиловичи. «Советскими гражданами» на всех подобных памятниках вполне справедливо, хотя слегка стыдливо называли здешних евреев.
«Биографии великих» в последние годы становятся все популярнее. Монументальные работы, написанные для серии ЖЗЛ, – Дмитрий Быков о Борисе Пастернаке, Лев Лосев об Иосифе Бродском, Захар Прилепин о Леониде Леонове; книги нарочито скандальные, с желтоватым оттенком, где основная идея в том, что гении – такие же слабые и грешные люди, как прочие смертные, а порой даже хуже: «Антиахматова» Тамары Катаевой и «За испорченный образ – кулак» Милы Смирновой о Марине Цветаевой.
«Еврейская лимита и парижская доброта» ближе не отечественной, а французской биографической традиции – работам Андре Моруа и особенно Анри Перрюшо, писавшего исключительно о художниках. Борис Носик далек как от непомерного возвеличивания своих героев, так и от низведения их жизней до обывательских сплетен. При всей своей жанровой и композиционной свободе «Еврейская лимита и парижская доброта» – серьезная исследовательская работа. Носик проанализировал массу документов — воспоминаний, дневников, трудов по искусствоведению. И везде он старается отыскать нить лже-Ариадны – отделить миф, созданный художником о себе, от его реальной биографии, подлинных истоков его творчества. Это не «развенчание», не попытка показать «голого короля», а серьезная и уважительная работа. В книге Бориса Носика герои – удивительные, талантливые люди, ищущие и полные противоречий, — оттого, наверное, и книга получилась одновременно легкая и серьезная. Шагал, Сутин, Буше, Малевич – они спорят, утешают рыдающих натурщиц, пишут и между прочим навсегда меняют ХХ век.













