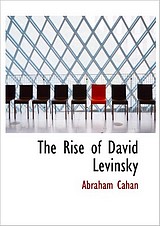В американской литературе, как однажды сострил критик Лесли Фидлер, не бывает свершения удачнее, чем неудача. Однако у американских еврейских писателей верно скорее обратное: для их персонажей ничто не оборачивается неудачей горше, нежели успех. И яснее всего это видно на примере «Взлета Давида Левинского» (1917) — первого классического романа в американской еврейской художественной литературе.
Написал роман Аврам Каган, с 1903-го по 1946 год — редактор ежедневной газеты на идише «Форвертс». Во «Взлете Давида Левинского» использована классическая формула «из грязи в князи», примененная Хорейшо Элджером в его страшно популярных книжках для мальчиков. Однако тут она используется с подвывертом. Давид Левинский приезжает в Америку иммигрантом без гроша в кармане и взлетает к успеху — становится одежным фабрикантом «стоимостью больше двух миллионов долларов». А на самой вершине вдруг осознает, что жизнь его пуста и незначительна. Ему не удается завершить образование, жениться, обзавестись домом на новой родине. Успех в швейной промышленности сопутствует ему лишь потому, что он успешно «прикидывается» более преуспевающими; внутри, в укромных уголках души он осознает себя жуликом и фальшивкой.
Как же такое могло произойти? Роман начинается в российской «черте оседлости», и на первых страницах царят нищета, насилие и тяга к знаниям — атмосфера, свойственная тамошней еврейской жизни. Все это так или иначе описано в романе Эзры Брудно «Беглец», вышедшем раньше, однако Каган работает с материалом живее и точнее. Первые критики романа даже отмечали, что русские главы его — едва ли не лучшие в книге.

Оказавшись в американской «золотой земле», Давид устраивается на работу в швейную мастерскую, чтобы заработать на колледж, но жизнь его меняется бесповоротно. Как он впоследствии скажет, его «сбивает с пути» — он проливает бутылку молока на груду шелковых костюмов. Босс оскорбляет его, и Давид замысливает месть — переманивает модельера компании, к чьим «американизированным копиям французских моделей особо благосклонен закупщик одного крупного универсального магазина», и открывает собственное одежное предприятие.
Чтобы обхитрить конкурентов, Давид предоставляет своим мастеровитым портным выходной не в воскресенье, а в субботу. В благодарность за это евреи, соблюдающие шабат, согласны работать за меньшие деньги. Такой «дешевый труд» — «главное оправдание моего бытия» как одежного фабриканта, откровенно признается сам Давид, — дает ему «преимущество над князьями этой промышленности». Когда Союз швейников устраивает забастовку, Давид делает вид, что присоединяется ко всеобщему локауту, а сам втайне разрешает своим работникам трудиться и дальше, выполняя заказы, от которых отказались другие фабриканты. «Для промышленности это стало большим бедствием, — размышляет он, — а для меня, похоже, — источником невероятного благосостояния».
Таков был взлет вымышленного Давида Левинского. Герой достиг его обманом конкурентов и эксплуатацией чужого труда. Неудивительно, что историю своей жизни он подытоживает заявлением: несмотря на «восторг моего нынешнего могущества» по сравнению с «днями нужды и отчаянья», к его «ощущению победы примешивается тягость пустоты и незначительности», а также «нехватка живого, глубокого интереса».
«Взлет Давида Левинского», написанный и опубликованный по-английски, называли первым идишским романом в Америке. Быть может, уместнее было бы назвать его первым русским романом: к описанию американской еврейской жизни Каган применяет реалистическую традицию Тургенева и Толстого. Хотя книга выглядит как автобиография главного героя, лучше всего Кагану удаются те эпизоды, когда он оттесняет рассказчика плечом и становится смышленым уличным наблюдателем бытования еврейских иммигрантов — когда рассказывает о тех странных обычаях, которые заводятся у евреев в Нью-Йорке на рубеже веков.
К примеру, он записывает «грубый язык» уличного торговца-еврея: тот «пуляет залпами непристойностей в уходящую тетку, которая лишь приценилась к тому, что у него на тележке, а покупать ничего не стала». Он описывает комические мучения в вечерней школе говорящих только на идише: они отчаянно коверкают английский в безнадежных попытках добиться «настоящего произношения янки». Еврейские нувориши, выставляющие напоказ собственную щедрость в синагоге перед бывшими российскими соседями; несчастные еврейские домохозяйки, мечтающие о романтической любви и искореженные угрызениями совести; зажиточные еврейские отдыхающие в Кэтскиллах, которые вскакивают на ноги при первых звуках американского гимна, «вознося благодарности флагу, под которым они кушали свой плотный ужин, разодевшись в дорогую одежду»; идишские писатели «двух враждующих школ», которые, надрывая глотки, ссорятся в богемном кафе. Такими вот портретами Каган пишет свой неизменно чарующий свидетельский репортаж о месте и времени, которых больше нет.

«Взлет Давида Левинского» был не первым романом американского еврея, выражавшим радикальные идеи. Эта честь выпала на долю Элиаса Тобенкина, чья книга «Приехал Витте» вышла в свет годом ранее. Но, как писала критик Рут Вайс, роман Кагана послужил моделью для последующих произведений американской еврейской литературы, «где эмоциональная стерильность героя — предсказуемая цена его финансовой сытости». Левинскому суждено было стать знакомым типажом — преуспевающим евреем, которому неловко, если не стыдно за свою «сытость».
Эта неудача отнюдь не вызывает симпатий автора. Он симпатизирует шумным улицам, кишащим евреями, которых Левинский оставил в прошлом: многие наверняка утешаются фантазиями о социалистической революции и свержении богатеев. Эти же картины искупают книгу и в глазах читателя. Быть может, лучше любой другой книги «Взлет Давида Левинского» показывает нам еврейский мир, где хотя бы на странице, если не в реальной жизни неудачники живее и успешнее победителей.
Источник: Jewish Ideas Daily, Д.Дж. Майерс — историк литературы и критик, преподаватель Сельскохозяйственного и политехнического университета Техаса, автор блога «Общее место».//
И другие писатели, вернувшиеся с холода:
Возвращение Эммы Вольф
Возвращение Эзры Брудно
А.М. Кляйн
Герман Воук
Майкл Голд