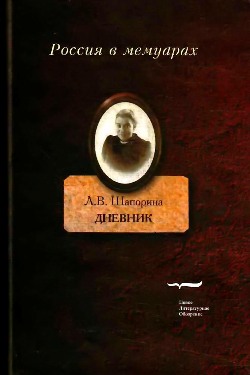Любовь Васильевна Шапорина прожила 87 лет. Жизнь долгая, но ничего невероятного в таком сроке самом по себе нет. Столько же прожил, скажем, князь Вяземский, умерший за год до рождения Шапориной, но он вовсе не кажется нам таким уж феноменальным долгожителем. Ощущение невероятности появляется, когда видишь крайние даты этой жизни: 1879—1967. В русском XX веке столько не жили. По крайней мере люди того слоя, к которому по рождению и воспитанию принадлежала Шапорина — дворянка, воспитанница Екатерининского института, художница, театралка, жена известного композитора, подруга и знакомая многих великих и знаменитых, в большинстве своем превратившихся в бежавших или гонимых.

До самого конца 1920-х годов записей в дневнике не так много, они появляются от случая к случаю. Шапорина начала систематически вести дневник как раз тогда, когда большинство сограждан сжигали записанное прежде. Чтобы поступить так, нужно обладать мощным императивом свидетеля — тем свойством, которое Шапориной было присуще в полной мере. «Неужели она не записала всего того, что видела, пережила, перечувствовала за ту мучительную войну?» — спрашивает она себя, послушав рассказы знакомой, служившей в Первую мировую старшей сестрой санитарного поезда. И через 30 лет: «Блокада — это, пожалуй, самое ценное из всей моей жизни. Видеть то, что людям не дано видеть».
Но, кроме императива свидетеля, здесь еще, наверное, и человеческое, слишком человеческое. Шапорина просто не могла перестать вести дневник, он был для нее терапией и самозащитой. Ей казалось, что жизнь не удалась, что в том деле, которое она выделяла для себя как главнейшее (кукольный театр), она далеко не достигла всего, чего могла. Семейная жизнь не сложилась почти с самого начала — муж бросил, с сыном отношения были прохладные. И главное крушение — любимая дочь умерла в 1932 году, не дожив до 12 лет. Сразу после этого Шапорина записывает: «В жизни остались только обязанности, а жизнь больше не нужна». И если после этой записи, ни на день не забывая об Алене, она прожила еще 35 лет, то, как ни странно звучит, в этом велика роль дневника. Он стал главным собеседником, заменой дела жизни, всего несбывшегося и нереализованного, заместителем не слишком надежных по условиям времени дружб.
Самое удивительное в этом дневнике — то, что он существует, существовал, что эта женщина его вела, судя по всему, особо не пряча и уж точно не применяя никакую тайнопись. Невозможно поверить, что кто-то в те годы не боялся писать про «глупые, разъевшиеся морды Сталина, Молотова», про будущий Нюрнбергский процесс над советскими вождями. Притом в дневнике совсем нет рефлексии на тему опасности — что будет, если найдут, прочтут, узнают. Понятно, что это писалось для себя, а не в расчете на посторонний глаз — но кто, кроме очень наивных людей, мог в те годы быть действительно уверен, что написанное для себя не будет прочтено недоброжелательным соглядатаем?
А наивной Шапорина уж точно не была, и суть происходящего на ее глазах понимала много вернее, чем большинство из нас сейчас, после всех публикаций и разоблачений. «Наша власть — дьявольская, сатанинская. Вся построенная на лжи, фальшивая, как ни одна другая»; «Мне просто дурно от нагромождения преступлений по всей стране»; «По современной молодежи впечатления скользят, не доходя до сознания. С детства они привыкли к ужасу современной обстановки. Слова “арестован”, “расстрелян” не производят ни малейшего впечатления. А каково нам, выросшим в Человеческой, а не звериной обстановке; впрочем, зачем я клевещу на бедных зверей», — такие записи встречаются практически на каждой странице.
Последняя запись, вполне возможно, содержит нечто вроде ключа к дневнику. Шапориной к моменту революции было уже под 40, она сформировалась в несоветской обстановке, в несоветской среде, ей было с чем сравнивать. Когда она пишет о своем подсоветском существовании: «В нормальное время я бы уехала в Италию и там бы осталась до смерти», то ключевое слово здесь — «нормальное». Через полвека, прожитые под коммунистами, Шапорина пронесла представление о норме, позволявшее оценивать абсолютно все, происходящее вокруг, как ненормальное.
«Мне кажется, что Россией правит чудовищный бред сумасшедшего», — записывает она еще в 1930 году, под впечатлением от «великого перелома». И это ощущение не покидает ее все последующие десятилетия. Иногда, правда, она пытается отыскать в этом бреде хоть какую-то логику, ей хочется поверить в троцкистов-вредителей, в то, что Ягода убил Кирова по заданию гестапо. И это не только из-за отчетливого и нескрываемого антисемитизма Шапориной, а просто сопротивляемость человеческого организма имеет пределы. Человек не может до конца принять, что он действительно живет внутри бреда, что никаких правил не существует, что вознесение к вершинам или низвержение в кромешный ад — это лотерея и ничего кроме лотереи. Но Шапорина к такому пониманию советской истории приближается вплотную.
И заметьте — здесь не существует никаких парадов физкультурников, челюскинцев, папанинцев, чкаловцев, Леваневского и Ляпидевского, никакого Алексея Стаханова aka Паша Ангелина. Все эти развесистые кубанские казаки вообще не становятся предметом рефлексии, фильтруются и отсекаются на дальних подступах к дневнику. Жизнь соткана совсем из другого. Страшная жизнь, почти без просвета, год за годом, десятилетие за десятилетием: гибель родных, превращение ближних в дальних, нищета, коммунальный быт, невозможность профессиональной реализации, существование среди людей, вызывающих брезгливость. Плюс война, аресты друзей, блокада. Ад внутри, ад снаружи, и не понять, какой страшнее. Едва ли не единственная сбывшаяся мечта — увидеть братьев, эмигрировавших после революции. В 1960 году удалось (непонятно как — записи за этот период в дневнике весьма отрывисты) выбить поездку в Швейцарию, где Шапорина пробыла два с половиной месяца. «Ежедневно молюсь, чтобы Господь Бог дал мне дожить до рассвета. И повидать братьев. Я не могу умереть, не повидавшись с ними», — это рефреном проходит через дневник Шапориной. Наверное, эта надежда, наряду с самим дневником, поддерживали в ней силы жить дальше. Дожила, повидала. Слава Богу. Хоть какое-то подобие хеппи-энда. Иначе читать этот дневник, наверное, было бы совсем невозможно.
Отдельный сюжет — тот самый антисемитизм. Шапорина, конечно, никакой не теоретик, ничего своего она здесь не изобретает, но именно типичностью ее антисемитские выкладки и интересны. Понять Шапорину — значит понять довольно большой слой подсоветской интеллигенции из «бывших», истоки, психологию, хронологию их антиеврейских настроений. Собственно, дневник как раз и помогает осознать, как широко были распространены такие настроения в интеллигентской среде: кроме очевидного Алексея Толстого возникают, скажем, и вполне неожиданный Всеволод Рождественский, разоблачающий происки еврейских жен русских композиторов, и Остроумова-Лебедева, убежденная в поголовной трусости евреев на фронте. Или вот Петров-Водкин рассказывает Шапориной о своем выступлении в Вольфиле в начале двадцатых:
«Был доклад о религии. Присутствовали марксисты, священники, раввины. Тогда ведь можно еще было свободно говорить о таких вопросах. Выступил и он, был в ударе и говорил, по-видимому, очень сильно о вере. В перерыве его окружили, и он почувствовал, как из него уходят силы, он обернулся и увидел, что окружен раввинами, которые трогают его за пиджак. “Я определенно чувствовал, как из меня выходят токи, флюиды”. Он верил в каббалу, в ее существование <…> Он поносил христианство как религию упадочническую, антихудожественную, пущенную в мир евреями на пагубу мира <…> Евреев терпеть не мог и всех подозревал в еврейском происхождении». И это не считая «простых» людей: соседей, знакомых, врачей, убежденных в «паразитарной роли евреев».
Эта линия в дневнике впервые возникает в 1917 году, когда сосед-помещик показывает Шапориной одну из версий «Протоколов сионских мудрецов». Автор дневника отзывается о «Протоколах» как о «курьезном документе, якобы найденном во время японской войны на убитом солдате-еврее», и пересказывает их содержание с явной иронией.
Второй раз и уже без всякой иронии «Протоколы» упоминаются в дневнике в записи за январь 1937-го, в связи с «большими процессами». «Курьезный документ» теперь становится ключом к осмыслению происходящего, официальные обвинения смыкаются с антисемитской конспирологией. Придуманный Вышинским «Троцкий — реставратор капитализма», оказывается, пытался восстановить частную собственность «для перехода ее в новые, уже сионские руки». Вообще отношение к процессам 1937-го у Шапориной двоится, оно, собственно, и не может не двоиться, как у любого «белого» антисемита тогда и сейчас: с одной стороны обвинители никак не лучше обвиняемых, с другой — на скамье подсудимых столько ненавистных жидобольшевиков, что во всем происходящем начинает мерещиться призрак «русского реванша». С одной стороны, процессы, даже если поверить в признания подсудимых, — это «приговор всему режиму»: «До сих пор в школах учат, что при Николае II был изменник Сухомлинов, это как пример разложения монархического строя. Сейчас сотни сухомлиновых, перед которыми Сухомлинов мальчишка и щенок». С другой — «Россию задумали скушать, благо свинский народ. Подождите, голубчики, еще русский народ себя покажет. Русский народ, создавший такие песни, такую музыку. Где возможны такие явления, как палешане?»
Вскоре в дневнике естественным образом появляется «немецкая» тема. В последнее время становится все более и более очевидно, что большой пласт русской «национально ориентированной» интеллигенции связывал с советско-германским сближением конца тридцатых надежду на перерождение советского строя под благотворным немецким влиянием. (Из последних публикаций на эту тему — любопытный анализ пришвинского дневника Леонидом Кацисом в февральском «Лехаиме».) Шапорина здесь опять не исключение: «Россия не может погибнуть, но она должна понести наказание, пока не создаст изнутри свой прочный фашизм». Причем Гитлеру лично она, в общем-то, не симпатизирует — «человек, вероятно, гениальный, одержимый маниакальной и сумасшедшей идеей покорения мира ради торжества своей расы». Но положительное в нем то, что он научит русский народ патриотизму и «даст Бог, подрежет оккультное масонство».
Настроения эти не исчезают даже с началом войны, наоборот, они лишь усиливаются, соединяясь с постоянным у Шапориной мотивом стыда за русский народ, безропотно сносивший еврейское иго и теперь готовящийся сменить одно рабство на другое:
«“Право на бесчестье” мы заслужили полностью — мы даже не ощущаем бесчестья. Мы давно потеряли не только всякий стыд, но самое понятие чести нам совершенно незнакомо. Мы рабы, и психология у нас рабская. У всего народа. Нам теперь, как неграм времен дяди Тома, даже в голову не приходит, что Россия может быть свободной; что мы, русские, можем получить “вольную”. Мы только, как негры, мечтаем о лучшем хозяине, который не будет так жесток, будет лучше кормить. Хуже не будет, и это пароль всего пролетариата, пожалуй, всех советских жителей. И ждут спокойно этого нового хозяина без возмущения, без содрогания. Говорят, немцы все же лучше грузин и жидов».
Впрочем, это скорее фиксация массовых ожиданий. Но вот лично от себя, с тем же «стыдом» в качестве рефрена: «Стыдно за все. Стыдно за передачи по радио, стыдно за Лозовского. Еврейские parvenus вообще лишены такта, как всякие, впрочем, parvenus, но у иудеев по отношению к России нет ощущения родины. Ужасно. Мне кажется, что я не смогу посмотреть в глаза ни одному немцу, ни одному нашему эмигранту». То есть перед немцами стыдно за то, что столько лет терпели Лозовского и лозовских, пока Гитлер не пришел и не помог. И лишь в декабре 1941-го, через полгода войны, три месяца блокады, под впечатление от бесконечных артобстрелов, бесчисленных жертв и разрушений: «Я разочаровываюсь в немецком уме и гитлеровской стратегии».
Дальнейшее известно из множества источников. Проходит еще два года. Евреи — плохие солдаты. Они не воевали, но после войны опять, как клопы, полезли из всех щелей, где отсиживались: «А евреи за трусость, за бегство с фронта должны быть наказаны. И будут, вероятно. В армии, по слухам, сильнейший антисемитизм». Впрочем, и «все нацмены никуда не годятся, они бегут, прячутся в кусты», «воюет только русский народ». Все это зафиксировано множеством мемуаристов, да и историками неоднократно проанализировано. Информативны не эти клише сами по себе, а фиксация их всеобщности. К какому знакомцу Шапорина ни зайдет, с каким соседом ни разговорится — все об одном и том же. То есть послевоенные антисемитские кампании были неминуемы, Сталин с его звериным чувством толпы просто не мог не откликнуться на столь явный запрос масс.
С антикосмополитической кампанией и делом врачей у Шапориной отношения такие же, как с «большими процессами», — двойственные. То есть когда некие абстрактные еврейские студенты интересуются, отчего их не принимают в аспирантуру, и получают от парторга в ответ: «Ленинградский университет находится в РСФСР, следовательно, он создан для русских, в Белоруссии для белорусов, в Украине для украинцев» — то Шапорина весьма довольна: «Вот как наказуется национальная бестактность! У этого народа нет и никогда не было исторического такта». Но когда вдруг выясняется, что вполне конкретную и «очень талантливую» Лелю Левину не принимают в Академию художеств «по пятому параграфу», или «милейшая, очень образованная, с тридцатилетним стажем В.А. Славенсон не может найти себе работы, ни по педагогической, ни по музейной части», — автор дневника в негодовании: «Вот вам и дискриминация негров, индусов и tutti quanti, о которых мы так печалуемся». И Остроумова-Лебедева немедленно звонит Владимиру Серову, заступаясь за Левину. Вообще, очень колоритная, очень советская и очень, если вдуматься, человечная картинка: две убежденные антисемитки ломают голову, как помочь бедной еврейке, и в итоге звонят большому начальнику, в девичестве Раппопорту, но получают решительный отказ: «Нам [разумеется, не нам, раппопортам, а каким-то другим нам] нужны прежде всего грамотные люди» (отличнице Левиной пририсовали во вступительном сочинении 32 ошибки).
То есть добрая и порядочная Шапорина, как и положено антисемиту, хочет сама решать, кто здесь еврей. А советская власть уже все решила без нее, решила, конечно же, неправильно, и Шапорина пытается скорректировать, подсказать, без всякой надежды быть услышанной: «Во главе Гослитиздата Горский и главный редактор западного сектора Трескунов — оба евреи, а дело это ответственное и, казалось бы, должно находиться в русских руках. А вот Вера Ананьевна Славенсон…» и т.д. То есть она вовсе не хочет, чтобы страдали милые и лично ей симпатичные Мееерсоны и Славенсоны — но страдают как раз они. А Раппопорты и Трескуновы, напротив того, не страдают, хотя борьба с евреями представлялась Шапориной именно так. Впрочем, погромные слухи и травля врачей окончательно разводят Шапорину с погромщиками: «Сколько я знаю прекрасных докторов-евреев».
Еще один характерный момент: еврей для антисемита — фигура контекстуальная. Один и тот же человек оказывается — по ситуации — то противным евреем, то симпатичным интеллигентом без национальности. Например, Ефим Эткинд читает свои переводы из Лессинга и Барбье. Переводы, при всей их виртуозности, Шапориной не нравятся, и она начинает подсчитывать национальный состав присутствующих: «На собрании было человек двадцать пять, а то и больше — из них русских четверо». А на похоронах Лозинского речь Эткинда ей очень нравится, кажется лучшей — и никакие подсчеты уже не нужны. Или еще более очевидный пример. Шапориной заказывают переводить Жюля Верна, но потом редакторы Брандис и Буданова расторгают договор с ней. С редактурой Брандиса Шапорина не согласна — «Бердичев» — и констатирует: «Второй раз меня съедают иудеи» (первый был в кукольном театре). Чтобы убедиться в своей правоте, она отдает рукопись на экспертизу Елизавете Полонской, та находит, что претензии Брандиса больше похоже на придирки, и Шапорина заключает: «Очевидно, антирусизм». То есть Полонская помогает разоблачить русофобские происки. И это несмотря на то, что раньше Шапорина писала про брата Полонской: «Мовшенсона я уважаю за то, что он сохранил свою ужасную фамилию и не сделался Полонским, как его сестра-поэтесса». А теперь «ужасная фамилия» уже не упоминается, Брандис и Буданова — «иудеи», а Полонская — объективный вненациональный эксперт. Более того, Жюль Верн в результате уходит к Доре Лившиц, которая, вопреки ожиданиям, оказывается не участницей еврейского заговора, а «лучшей переводчицей в Ленинграде». А потому уже как бы и не еврейкой…
То есть иммунитет к официальной пропаганде вполне сочетается у Шапориной с готовностью следовать самым примитивным клише, банальный антисемитизм — с повседневным, обыденным героизмом. Мне кажется, именно это сочетание и делает ее дневник не только историческим источником первостепенной важности, но и рассказом про человека, в сознании которого намешаны факты и слухи, прозрения и мусор. Искренним, выпуклым рассказом про любого из нас.