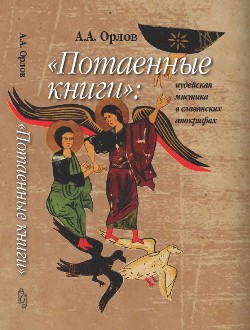Академические книги обычно выглядят лишь в малой степени приспособленными к нуждам идеального читателя. При этом в них сокрыты многолетние духовные поиски ушедших поколений интеллектуалов, нередко о существовании друг друга не подозревавших. Такова книга Андрея Орлова «Потаенные книги»: иудейская мистика в славянских апокрифах» — сборник работ, посвященных чтению славянских апокрифов в свете древних и не очень древних иудейских писаний. Книга составлена из русских переводов английских статей русского автора, который нашел свою академическую нишу в католическом университете города Милуоки. Выпустило книгу в Иерусалиме еврейское издательство «Гишрей тарбут». Такая своеобразная гетерогенность интересна уже сама по себе и указывает, надо полагать, на то, что автор прокладывает пути своих изысканий не по столбовым дорогам ученого консенсуса, но по прихотливым тропам меж границ и граней разных культур и религий, отыскивая своего идеального читателя между Москвой и Иерусалимом.

Долгое время скептики предпочитали не утруждать себя исканием отблесков древних учений в неясных словосплетениях средневековых славянских писаний. Но Орлов вслед за рядом ученых (А. Кулик, М. Таубе и др.) предполагает, что славянские апокрифы, сохранившиеся в рукописях XV-го и более поздних веков, являются метаморфозами ранних еврейских апокалипсических сочинений, и их изучение проливает свет на темные страницы в истории еврейской литературы. Не без интеллектуального вожделения автор именует утраченные оригиналы интригующим термином «потаенные книги», относя к ним «Книгу Еноха Праведного», «Откровение Авраама» и «Лествицу Иакова», тайны которых он хотел бы сделать явными. В этих текстах наш автор обнаруживает милые его сердцу апокалипсические настроения эпохи Второго Храма, в которых усматривает зерна более поздних иудейских мистических учений, так называемых Небесных Чертогов (Хейхалот) и Божественной Колесницы (Меркавы).
Связь между мистическими восхождениями в Чертоги и вознесением апокалипсического героя на небеса (где его тело претворяется в чудесный бессмертный организм), как и связь между поздними и ранними мистическими теософиями, не считается общепринятой и может быть сочтена явной новацией.
Автор много размышляет о том, как формировались, трансформировались и претворялись представления о божественных атрибутах: Лик Бога, Имя, репрезентация Бога и способы гипостазирования. Антропоморфный характер теософских спекуляций его героев о божественной субстанции захватывает автора почти в той же мере, в коей занимает его физическая метаморфоза, происходящая с божественным избранником, удостоенным вечного тела.
Почти все тексты славянских апокрифов, избранные Орловым, — апокалипсические видения событий прошлого и будущего. Апокалипсический жанр, распространенный в литературе Второго Храма, почти полностью был отвергнут талмудической литературой, и лишь фрагменты фантазий на эсхатологические темы находятся в талмудическом корпусе. Орлов усматривает в славянских апокрифах элементы не только учений эпохи Второго Храма, но и более поздних произведений еврейской мистики, и достаточно увлекательно, хотя и не без характерной для русского автора туманности изложения, демонстрирует траекторию формирования идей.
Таким образом, перед нами книга, которая обращается к читателям славянских апокрифов, апокрифической литературы, любителям еврейской мистики в частности и всем изучающим иудаику. Но помимо этих, ожидаемых и неожиданных среди читателей «Букника» человеческих категорий, книга интересна тому, кто любит скитаться в неисхоженных областях гуманитарного знания.
Книги, будучи написанными, попадают в определенный культурный контекст. Эта, помимо непосредственного урока, интересна тем широким культурным контекстом, в который она вписывается, завоевывая в нем особенную нишу. В этом контексте прочитывается цайтгайст — дух времени того поколения, к которому принадлежит автор книги, в котором на смену коммунистическому рационализму пришел христианский мистицизм. Книга сочетает здравый скепсис и критицизм с бережным отношением к текстам, освященным разными религиозными традициями, и пристальным вниманием к теологическим — в данном случае, наверное, следует сказать «богословским» — вопросам, занимающим равно и семинаристов, и слушателей каббалистических курсов.