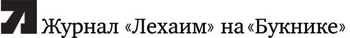Сергей Гандлевский. Бездумное былое
М.: Corpus, 2012

С самого начала, казалось бы, не предвещающего ничего неожиданного (родился в Грауэрмана, семья полуеврейская, полупоповская, обычная московская биография), читатель становится участником диалога с автором. Взять хотя бы название (аллюзия на Герцена): немедленно хочется возразить. Потому что в процессе чтения очень скоро обнаруживается, что былое было отнюдь не бездумно, хотя нельзя не оценить по достоинству авторскую самоиронию, этот самый верный инструмент в руках автобиографа, не желающего превратиться в автоагиографа. Бесстрастно отмечая свои грехи и недостатки, Гандлевский ни в коем случае не кокетничает и не лукавит, но текст так обаятелен и суггестивен, что читатель поневоле обнаруживает в себе страстное желание защитить автора от его собственных нападок.
Нарочитая простота, с которой автор ведет изложение, его старание «вспомнить все заново» (чтобы мысль и слово не попадали в наезженную колею предыдущих мемуаров, интервью, собственной прозы), точность в деталях и датах как будто отсылают нас к документу, к архиву. Но как сжать человеческую жизнь до объема четырех печатных листов, не теряя ни в убедительности, ни в увлекательности? Как суметь посмотреть на себя, свои поступки и чувства со стороны? Как совместить беспощадную откровенность и строгий вкус, табуирующий любое проявление пафосности? Как выразить любовь и нежность к близким и друзьям, живым и ушедшим, не впадая в сентиментальность? Как рассказать про себя, не нарушая трудно определяемых, но болезненно ощутимых границ privacy? Вопросы не праздные — кажется, если найдешь ответ, то сможешь стать вровень с автором и где-то в самой высшей школе тебе поставят самый высший балл.
Рассказывая про невыдуманную — свою ведь собственную! «собственноручно» прожитую — жизнь, Гандлевский пользуется приемами, позволяющими с уверенностью отнести его нарратив к художественной прозе. Он умеет простыми средствами преобразить уникальный жизненный опыт в искусство, то есть в объект потребления для всех желающих. Он не перегружает свою емкую и метафорическую речь, хотя и знает толк в точных деталях. Но самое главное, пожалуй, достоинство книги — невероятно искренняя и узнаваемая интонация, знакомая всем читателям Гандлевского-поэта. Интонация и порядок слов — это ведь не только про поэзию, это вообще про словесность. «Я… опасался, что не смогу распорядиться чрезмерной, лишенной жестких ограничений размера и рифмы свободой письма в строчку», — замечает автор (а мы с галерки неслышно кричим ему: «Зря, зря опасался!»).
Даже в скромном жанре автобиографических заметок, оказывается, есть место всему тому, что мы несколько расплывчато, но интуитивно точно определяем как «настоящую литературу». И дело не только и не столько в изобразительных средствах, которые у Гандлевского всегда под рукой. Многие настоящие мастера отмечали, что любительское исполнение трогает их больше профессионального. Может быть, чтобы хорошо и достоверно рассказать о себе в контексте времени, профессиональному литератору и необходимо стать любителем, дилетантом. Вспоминая свои занятия со студентами и сетуя на их скованность, Гандлевский жалуется Вайлю: «Я ведь предлагаю им дилетантский разговор!» На что Вайль отвечает: «До дилетантского разговора еще нужно дорасти».
Рассказывать истории — нечто вроде инстинкта продолжения рода, насущная потребность, встроенная в человеческую природу. А самая захватывающая история, конечно, — это история человеческой жизни. Акынствовать, трубадурничать, а также менестрельничать и рапсодничать, то есть свидетельствовать, — одно из самых трудных занятий на свете. Тютчев недаром тревожился: «Другому как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь?»
Кажется, мы, читатели Гандлевского, поняли.