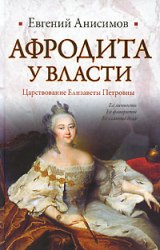В начале сороковых годов XVIII века с русской политической сцены ушли последние соратники Петра, люди эпохи великого перелома, поменявшего весь жизненный уклад России. На их место пришло первое поколение русских «европейцев», не знавших прежней, «боярской», бородатой Руси, для которых новый порядок был естественным. На русский престол взошла последняя из «птенцов гнезда Петрова» — его младшая дочь Елизавета (1709–1761), главная героиня новой книги Евгения Анисимова, одного из ведущих современных специалистов по русской истории XVIII столетия.
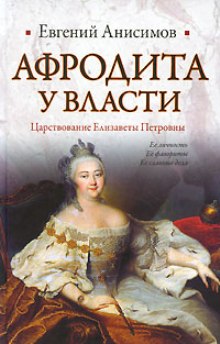
Несмотря на царское происхождение, в начале сороковых годов Елизавета Петровна не имела законных прав на отчий престол. Согласно петровскому закону, порядок престолонаследия определялся исключительно волей правящего монарха, а предшествующая императрица Анна Иоанновна слишком ненавидела и презирала дочерей «портомои» Марты Скавронской, появившихся на свет до официального бракосочетания родителей. В своем завещании Анна Иоанновна сделала все, чтобы корона не досталась Елизавете. Не случайно книга Анисимова начинается главой «Ночной штурм», где историк описывает дворцовый переворот, вознесший дочь Петра на вершину власти.
Дворцовыми переворотами россиян XVIII века было не удивить. Однако комплот Елизаветы отличался особой дерзостью. Ее мать Екатерину I возвел на престол всесильный Меншиков, двоюродную сестру Анну позвал на царство Тайный совет, состоявший из первых вельмож и генералов, а предшественница Анна Леопольдовна получила власть из рук генералиссимуса Миниха. За спиной Елизаветы не было ни вельмож, ни генералов. Вся ее «партия» состояла из трехсот «преображенцев» (среди которых даже не было ни одного офицера), да нескольких штатских, из которых самый «высокопоставленный» был лекарем. У нее самой из «оружия» была красота, личное обаяние и славное имя отца. Этого оказалось достаточно, чтобы свергнуть законную власть и получить корону величайшей европейской империи.
Елизавета усердно помолилась Богу, надела кирасу, и поехала в слободу Преображенского полка, где обратилась к солдатам с такими словами: «Други мои! Как вы служили отцу моему, то и мне послужите верностью вашей!». Гвардейцы в ответ гаркнули: «Рады все положить души наши за ваше Величество и Отечество наше!», после чего, прыгнув в сани, устремились за своим прелестным полководцем в сторону Зимнего. Доехав до начала Невского, гвардейцы разделились на несколько отрядов: одни устремились арестовывать важнейших министров, а главный отряд во главе с Елизаветой направился к Зимнему… Ворвавшись в спальню правительницы, Елизавета произнесла банальную фразу: «Сестрица, пора вставать».&&
Уже после воцарения Елизаветы некоторые придворные борзописцы попытались представить переворот как патриотическое выступление против засилья «немцев» при русском дворе (впоследствии эту тему подхватит советский агитпроп). Однако императрица не стала разыгрывать антинемецкую карту — как пишет Анисимов, слишком хорошо понимая, что не сможет управлять империей без западных профессионалов, «да и вообще, Россия давно уже была заодно с европейским миром». Победа над Швецией (война началась еще при Анне Леопольдовне) была одержана под командованием ирландца Ласси, в Семилетнюю войну одним из трех русских главнокомандующих был бывший адъютант Миниха англичанин Фермор, а отрядом, занявшим Берлин, командовал немец Торлебен.
Придя к власти, Елизавета Петровна заявила, что «все будет, как при батюшке». Однако для этого императрице не хватало главного — умения и желания заниматься государственными делами. Почти двадцать лет пребывания во главе государства Елизавета провела в полном соответствии с «Историей государства российского от Гостомысла до Тимашева»: «Веселая царица была Елисавет — поет и веселится…»
&&Первой заботой государыни были, конечно, платья и прически. Француз Фавье писал, что «в обществе она является не иначе, как в придворном костюме из редкой и дорогой ткани». Современники пишут, что Елизавета никогда не надевала одно платье дважды… Елизавета обожала сласти, и ее правление стало настоящим «веком конфект», от которых ломились столы во дворце… Государыня вела необычную, полуночную жизнь на балах и маскарадах. Сплетни, слухи об интимной жизни придворных были для Елизаветы любимым развлечением.
Как пишет Анисимов, от своего великого отца Елизавета унаследовала в основном недостатки: многочисленные фобии (Петр до смерти боялся тараканов, его дочь — мышей) и вспыльчивый характер. Правда, для окружающих это имело менее трагические последствия, чем темперамент царя-реформатора: накануне государственного переворота Елизавета «дала клятву никого не приговаривать к смерти, и клятву эту выполнила».
Фактически, внутри- и внешнеполитическими достижениями того времени, от основания Московского университета и Академии художеств до победы над Пруссией в Семилетней войне, Россия обязана не «поющей и веселящейся» царице, но прежде всего ее отцу, который создал государственную машину, способную двигаться вперед даже при монархах, лишенных способностей к управлению. Не обошлось, конечно, и без выдающихся помощников. Среди ближайших сподвижников Елизаветы — канцлер Бестужев-Рюмин, Иван Шувалов, Кирилл Разумовский — не было государственных гениев уровня Ришелье, однако они оказались способны справиться с вверенными им делами (Разумовский, несмотря на отсутствие образования, прекрасно исполнял роль Президента Академии наук, поскольку не лез в ученые дела, а занимался финансами и общими вопросами). Каждому фавориту и приближенному царицы Анисимов посвятил отдельную главу.
«Афродита у власти» рассказывает не только о жизни самой Елизаветы и ее окружения. Анисимов подробно пишет и о русской культуре елизаветинской эпохи, о тогдашнем городском быте, политическом сыске, уголовной преступности (в том числе о перешедшем на службу полиции знаменитом разбойнике Ваньке-Каине), о хозяйственной и торговой жизни. Есть главы о трагической судьбе свергнутой правительницы Анны Леопольдовны и ее семье, а также печально знаменитой Салтычихе — садистке-помещице, чье дело закончилось уже в следующем царствовании.
При вскрытии тела дворовой Григорьевой было установлено, что «по всей спине и по обоим бокам кожа и мясо до самых внутренностей согнило». Когда забитую Прасковью Ларионову повезли хоронить (дело было зимой), то на труп бросили ее грудного ребенка, который по дороге замерз. Общий список замученных составил 75 человек… Салтычиха отрицала как убийства, так и другие свои преступления. Отправить на дыбу дворянку власти не решились. Дело тянулось до 1768 года.
Не осталось без внимания и отношение императрицы к евреям. В этом вопросе Елизавета оказалась настоящей дочерью своего отца, который, несмотря на прагматизм и веротерпимость, разделял юдофобские предрассудки своего времени. Если верить Соловьеву, когда Петру предложили допустить в Россию евреев, царь-реформатор ответил, что предпочитает «видеть у себя лучше народов магометанской и языческой веры, нежели жидов. Они плуты и обманщики. Я искореняю зло, а не распложаю. Не будет для них в России ни жилища, ни торговли, сколько о том ни стараются и как ближних ко мне ни подкупают». Тех же принципов придерживалась и Елизавета. Едва вступив на престол, она издала именной указ «О высылке как из Великороссийских, так и из Малороссийских городов, сел и деревень, всех Жидов», а на просьбу хотя бы на время впускать в страну иностранных купцов-евреев высокомерно заявила: «От врагов Христовых не желаю интересной прибыли».
Среди изгнанных за пределы России евреев оказался знаменитый врач, придворный доктор Санхес, который пользовал и государыню, и всю тогдашнюю знать. Он был врачом-кудесником, и очень симпатичным человеком. Его судьба за границей оказалась печальной. Русский представитель во Франции писал об отчаянном положении Санхеса, которого, как изгнанника без рекомендаций, никто не брал на службу.
Этой политики Елизавета твердо придерживалась вплоть до своей кончины. А вскоре после ее смерти начались разделы Речи Посполитой, и вместе с бывшими польскими землями Россия получила сначала десятки, а затем и сотни тысяч еврейских подданных, и царствование Елизаветы Петровны стало последней эпохой, когда русским и евреям еще не приходилось думать, как им быть «двести лет вместе».
И еще о веселии:
Лехаим, бояре!
Маскарад и переодевания
Подвижные игры на отдельно взятом экране