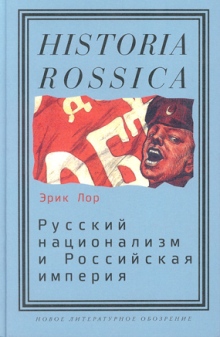19 июля (по старому стилю) 1914 года в России был опубликован Высочайший манифест об объявлении войны Германии. А 26 июля состоялось чрезвычайное заседание Государственной Думы, в ходе которого представители оппозиции и национальных меньшинств в один голос заявили о преданности родине и престолу.
Людвиг Люц, представитель немецких колонистов, заявил: «Немцы, населяющую Россию, верноподданные Его Величества, сумеют защитить достоинство и честь великого государства». Н.М. Фридман, выступивший как предстатель российского еврейства, заявил, что «мы, евреи, всегда чувствовали себя сынами России и всегда были верными сынами своего отечества». Барон Г.Е. Фелькерзам провозгласил, что прибалтийские немцы безусловно выполнят свой долг.

Однако, пишет американский историк Эрик Лор, на практике власти практически сразу приступили к осуществлению целого комплекса репрессивных мероприятий против обладателей неблагонадежного гражданства, национальности и вероисповедания. Первыми жертвами стали, естественно, проживавшие в России подданные Центральных держав — десятки тысяч немцев и австрийцев были помещены в специальные лагеря или просто высланы во внутренние губернии под надзор полиции. В принципе, подобные меры принимались во всех воюющих странах, включая далекую Австралию. Однако российская политика носила тотальный характер — жертвами депортаций нередко становились не только мужчины призывного возраста, но и дети, женщины, старики и даже родственники солдат российской армии. Но главное, в России аналогичные меры вскоре начали применять как в отношении иностранцев, так и против собственных подданных «неправильной» национальности. Главными жертвами массовых высылок во внутренние губернии стали российские немцы и евреи — и в том и в другом случае счет переселенцев шел на сотни тысяч. Кроме того, с Кавказа во внутренние губернии было выслано несколько десятков тысяч мусульман, заподозренных в симпатиях к Турции.
Репрессивная политика касалась не только отдельных лиц. До войны германские подданные и русские немцы владели в России сотнями предприятий и миллионами десятин плодородных земель. После 1914 года правительство приступило к планомерной русификации экономики: «вражеские фирмы» закрывались, земли немецких колонистов подлежали секвестру. (Как водится, среди пострадавших оказалось множество случайных жертв — например американская фирма швейных машинок «Зингер», ошибочно объявленная германской). Как полагает Лор, конечной целью правительства было полное вытеснение германского капитала из отечественной экономики.
Репрессивную политику правительство, естественно, оправдывало заботой о безопасности. Однако, пишет Лор, в значительной степени оно руководствовалось внутриполитическими соображениями. Во-первых, в стране, ставшей после 1905 года конституционной монархией, власти не могли не считаться с массовыми антигерманскими настроениями, охватившими Россию с началом войны и достигшими кульминации во время московского погрома 1915 года.
Советские историки утверждали, что «пролетариат» не участвовал в московском погроме; дореволюционная общественность обвиняла в организации лично градоначальника Адрианова. Изучив материалы секретного расследования, проведенного по горячим следам, и другие свидетельства, Лор пришел к выводу, что оба утверждения безосновательны. Рабочие не просто активно участвовали в погроме, но выступили его зачинщиками. Что же до Адрианова — он честно пытался остановить насилие, хотя действовал недостаточно энергично, долгое время запрещая полицейским стрелять, — по его словам, во время войны он не мог приказать стрелять по толпе, поющей патриотические гимны и идущей, пусть даже на погром, с портретами государя императора.
Впрочем, антинемецкие настроения были свойственны не только рабочим. С началом войны российское купечество (голосовавшее за октябристов и левее) развернуло мощную кампанию против немецкого экономического влияния, призывая к созданию русской национальной экономики. Не осталась в стороне и правая пресса, добавившая германских подданных и русских немцев к традиционному списку внутренних врагов — евреям, полякам и революционерам.
Чиновники по всей империи были чувствительны к статьям в популярных правых газетах и к малейшему намеку на мягкость того или иного бюрократа в борьбе с немецким засильем. Крупный чиновник МВД Харламов признавался, что отклонял много ходатайств, опасаясь увидеть свою фамилию на страницах «Нового времени».
Во-вторых, с началом войны страну охватила волна шпиономании. Повсеместно ходили фантастические слухи о сигналах, передаваемых неприятелю, тайных телефонных проводах, многочисленных диверсиях и актах саботажа. При этом и военные, и общественность подозревали в шпионаже в первую очередь тех, у кого могли быть мотивы желать победы Германии и ее союзников, — германских и австрийских подданных, русских немцев, кавказских мусульман, евреев, якобы надеявшихся получить от немцев равноправие…
В-третьих, в либеральных салонах и клубах шли постоянные разговоры о немецких симпатиях, тайных сепаратных переговорах и просто измене придворной камарильи и особенно императрицы-немки. От слов некоторые либералы переходили к делу: к примеру, депутат-прогрессист Мансырев в 1916 году демонстративно отказался от председательства в думском Комитете по борьбе с германским засильем, поскольку правительство якобы оказывало покровительство крупным остзейским землевладельцам.
Подобные разговоры и демонстрации подрывали престиж правительства, вынуждая его доказывать свой патриотизм с помощью жестких мер против немцев и других подозрительных инородцев. Как водится, наибольшее усердие при этом нередко демонстрировали министры и губернаторы с характерными фамилиями, например премьер Штюрмер или херсонский губернатор барон Гревениц.
История знает примеры, когда репрессивные меры против нелояльных меньшинств способствовали укреплению государства (депортация судетских и силезских немцев, израильская Война за независимость и т.д). Однако для Российской империи последствия националистической политики военных лет оказались самыми разрушительными. В результате репрессий несколько сот предприятий, в том числе выполнявших военные заказы, оказались ликвидированы. Разорилось множество русских фирм, связанных с немцами экономическими или кредитными отношениями. Несколько миллионов десятин сельхозугодий, отобранных у немецких колонистов, пришли в запустение. Массовое выселение немцев из Лифляндии и Эстляндии резко усилило позиции местных латышей и эстонцев и в конечном итоге способствовало отделению этих губерний. И, наконец, десятки тысяч озлобленных и разоренных переселенцев, прежде настроенных лояльно и даже консервативно, стали бесценным кадровым резервом для радикальных революционных партий. Словом, полагает Лор, попытавшись укрепить империю мерами против подозрительных инородцев, российская власть, сама того не желая, фактически ускорила собственное крушение и распад.