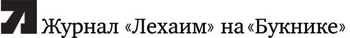Вылетев из Африки в апреле
К берегам отеческой земли,
Длинным треугольником летели,
Утопая в небе, журавли.
Вытянув серебряные крылья
Через весь широкий небосвод,
Вел вожак в долину изобилья
Свой немногочисленный народ.
Но когда под крыльями блеснуло
Озеро, прозрачное насквозь,
Черное зияющее дуло
Из кустов навстречу поднялось.
Луч огня ударил в сердце птичье,
Быстрый пламень вспыхнул и погас,
И частица дивного величья
С высоты обрушилась на нас.
Два крыла, как два огромных горя,
Обняли холодную волну,
И рыданью горестному вторя,
Журавли рванулись в вышину.
Только там, где движутся светила,
В искупленье собственного зла
Им природа снова возвратила
То, что смерть с собою унесла:
Гордый дух, высокое стремленье,
Волю непреклонную к борьбе, —
Всё, что от былого поколенья
Переходит, молодость, к тебе.
А вожак в рубашке из металла
Погружался медленно на дно,
И заря над ним образовала
Золотого зарева пятно.
 Николай Заболоцкий. Автопортрет. 1925 год
Николай Заболоцкий. Автопортрет. 1925 годДля поклонников «Столбцов», «Лодейникова», «Торжества земледелия» или «Безумного волка» поэтическая продукция «позднего» Заболоцкого — это очевидная творческая капитуляция, отступление от завоеваний Хлебникова и обэриутов в сторону классицистской риторики с ее «торжественной картинностью, холодным пафосом, выспренностью и рассчитанными эффектами» (критик Даниил Данин о поэме «Творцы дорог»1).
Не менее, чем ориентация на классицистскую оду или аллегорию, этому периоду творчества Заболоцкого свойственны гражданские мотивы в духе Некрасова и морально-бытовая рефлексия в духе популярной тогда у читателей и официально поддержанной поэзии (Щипачев). Если учесть, что именно три этих элемента — классицизм, преемственность XIX веку по революционно-демократической линии и допущение в искусство интимного момента (семья, брак, любовь) — были основой эстетического и идеологического проекта последних лет сталинского правления, то вывод относительно «позднего» Заболоцкого представляется неизбежным: предпринятая поэтом радикальная перестройка собственного творческого метода есть не что иное, как сознательно выбранная «стратегия выживания». Но, как доказывает опыт, выживание поэта не гарантирует витальности стиха.
С другой стороны, достаточно многочисленны и не менее значимы голоса тех, кто находит в этих холодных неоклассицистских аллегориях, пронизанных мощной метафорикой, по силе и неожиданности не уступающей прихотливым тропам 1920–1930-х годов, самостоятельную ценность и числит их по разряду шедевров русской поэзии. На этом вернисаже «Журавли» прочно утвердились в том же ряду, что и близко родственный им «Лебедь» или «Портрет» и «Некрасивая девочка», ни в чем названным «парадным портретам» не уступая и ни в чем их не превосходя.
Но именно в стихотворении «Журавли» — и только в нем — мы обнаруживаем странный сбой, грубейшую ошибку. Ошибку внетекстового, реального плана, немыслимую именно для Заболоцкого с его превосходным знанием живой природы, в том числе (и особенно!) — орнитологии. Между тем в последней строфе мы читаем:
А вожак в рубашке из металла
Погружался медленно на дно…
Первая строка попросту несусветна, поскольку перед ней говорится о «луче огня», то есть выстреле из «черного зияющего дула», каковой выстрел попадает в «сердце птичье». И вот каким-то удивительным образом пуля, попавшая в сердце — вовнутрь журавля, облекает птицу снаружи! Допустим, что перед нами некоторая недоработка поэтического образа. Но за этим следует фактическая ошибка, ни к какому образу отношения не имеющая. И сразу же после публикации стихотворения эта ошибка была замечена — в письме к поэту доцент кафедры зоологии МГУ Константин Николаевич Благосклонов писал: «Рубашку из металла еще можно принять — птица стального цвета, но чтобы птица тонула — поверить никак нельзя».
Разумеется, автор поэмы «Птицы», где точно описан урок анатомии пернатых (хотя и без упоминания журавля), не нуждался в такого рода указаниях специалиста. Но, схваченный за руку, поэт предложил заменить опрометчивую строку вариантом: «Уплывал, не падая на дно…».
 Николай Заболоцкий. Автор фотопортрета — сын поэта Никита Заболоцкий. 1948 год
Николай Заболоцкий. Автор фотопортрета — сын поэта Никита Заболоцкий. 1948 год
А из этого следует одно: поэт сознательно шел против «натуры», подсказывая внимательному читателю, что за жанровой картинкой стоит что-то иное.
Любопытно проследить и за другими вариантами, оставшимися в черновиках.
Место строки «Там вверху, где движутся светила…» первоначально занимала другая: «Только там, где плавают светила…». Здесь причина замены абсолютно понятна — слишком прямая и очевидная отсылка к Лермонтову:
Тихо плавают в тумане
Хоры стройные светил…
Тем не менее данный — отброшенный — вариант необыкновенно важен, ибо указывает на то, что русская классическая поэзия соучаствует в процессе создания «Журавлей».
Примечательна и судьба другого варианта — во фразе:
И частица дивного величья
С высоты обрушилась на нас…
первоначально — вместо слова «дивного» — стояло: «божьего». Тут как будто тоже все понятно: в 1948 году поповская лексика не могла быть пропущена ни одним редактором. Однако в паре с Лермонтовым данный вариант предстает не случайной оговоркой, а, скорее, проговоркой, указывающей на то, какие предельные символы и силы (Демон и Бог) ушли в подтекст известного нам текста.
И при всем том Заболоцкий упорно держится за научно несостоятельную строчку:
Погружался медленно на дно…
В чем причина? А причина в том, что такой именно случай — гибели героя в водной пучине — уже был описан русской поэзией:
…Иртыш волнуется сильней —
Ермак все силы напрягает
И мощною рукой своей
Валы седые рассекает…
Плывет… уж близко челнока,
Но сила року уступила,
И, закипев страшней, река
Героя с шумом поглотила.
Лишивши сил богатыря
Бороться с ярою волною,
Тяжелый панцирь — дар царя
Стал гибели его виною.
(Кондрат Рылеев, «Смерть Ермака»)
 Соломон Михоэлс. Рисунок А. Г. Тышлера
Соломон Михоэлс. Рисунок А. Г. ТышлераЗаметим еще, что «тяжелый панцирь» в балладе снабжен указанием на происхождение: «дар царя». Это нам понадобится в дальнейшем, а пока, кроме «рубашки из металла», ничто не связывает утонувшего вождя казачьей дружины с утонувшим вожаком журавлиной стаи. Кроме, пожалуй, еще одного обстоятельства: Ермак гибнет, угодив в Кучумову западню, но ведь и «черное зияющее дуло», внезапно поднявшееся из кустов, похоже больше не на охоту, а на засаду, тайное предумышленное убийство.
В остальном — поэтические климаты, то есть образность Заболоцкого versus описательность Рылеева, так же далеки друг от друга, как Африка от Сибири. С Африки и начнем.
Где та «отеческая земля», куда устремляются журавли, покинувшие Африку в апреле, чтобы осенью в ту же Африку вернуться? Ответ очевиден: земля эта европейская, в частности русская, для которой журавль птица почти что «нашенская» — журавушка! Вот только пункт прибытия — «долина изобилья» — не имеет своего прототипа ни в русской реальности (особенно реальности 1948 года), ни в русской поэзии.
Но все эти элементы: отбытие из Африки, «долина изобилья», называемая «отеческой землей», как цель пути, вожак, «немногочисленный народ» — идеально укладываются в один сюжет, и место этому сюжету в одной единственной книге, оттого и названной Книгой книг: вождь Моисей, уводящий свой немногочисленный народ из африканского Египта в землю, текущую молоком и медом, ту, что была для этого народа Страной праотцев, то есть «отеческой землей». И немногочисленный народ этот избран Б-гом, а значит, в каждом сыне этого народа есть частица Б-жьего величия. И вождю этого народа не суждено вступить в Землю обетованную.
Правда, вожак, в отличие от Моисея, умер не своей смертью, но был предательски убит.
А тогда мы не можем не вспомнить еще одно произведение русской поэзии, где «журавлиный народ» тесно связан со специфическим преступлением — подлым убийством в результате заговора. Речь, понятно, идет о балладе Шиллера «Ивиковы журавли» в переводе Василия Жуковского. Однако, наряду с этим классическим переводом, существуют, как минимум, еще два. И один из них принадлежит перу Николая Заболоцкого.
Этот труд высоко оценил сам Кашкин: «Заболоцкий услышал в стихах Шиллера и передал то, что делает для нас осязательным саморазоблачение убийц Ивика… Заболоцкий донес до читателя то, что было утеряно даже Жуковским»2. К сожалению, что это было за «то», утерянное даже Жуковским, Кашкин не прояснил. Попробуем поэтому отыскать наиболее существенные отличия.
Во-первых, это мотив сродства (параллелизм судьбы поэта и журавлей), о котором объявляет сам Ивик в момент, когда над ним проносится журавлиная стая.
Жуковский:
О спутники, ваш род крылатый,
Досель мне верный провожатый,
Будь добрым знамением мне.
Сказав: прости! Родной стране,
Чужого брега посетитель,
Ищу приюта, как и вы;
Да отвратит Зевес-хранитель
Беду от странничьей главы.
Заболоцкий:
О птицы, будьте мне друзьями!
Делил я путь далекий с вами,
Был добрым знамением дан
Мне ваш летучий караван.
Теперь равны мы на чужбине, —
Явившись издали сюда,
Мы о приюте молим ныне,
Чтоб не постигла нас беда.
Самое значимое расхождение — признание сродства с журавлями по признаку равенства на чужбине и надежды на безопасный приют. Разумеется, современному восприятию резкое, однозначно трагическое слово «чужбина» говорит намного больше, чем вялая «туристическая» формула «чужого брега посетитель». Упование же на покровительство Зевса Заболоцкий попросту отбрасывает…
Признаемся, что, в отличие от Кашкина, саморазоблачение «Ивиковых убийц» не показалось нам столь уж осязательным, но вот описания убитого в двух показаниях выразительно отличаются одной существенной визуальной деталью.
Жуковский:
И труп узрели обнаженный:
Рукой убийцы искаженны
Черты прекрасного лица…
Заболоцкий:
И труп был найден обнаженный,
И лик скитальца искаженный
Печатью ужаса и мук…
 Плакат к фильму «Летят журавли». Художник Б. А. Зеленский. 1957 год
Плакат к фильму «Летят журавли». Художник Б. А. Зеленский. 1957 год
От «прекрасного лица» — черты лица не прекрасны, но, напротив, — искажены ужасом и мукой. (Примечательно, что эпитет «прекрасный» Заболоцкий затем восстанавливает, но лишь применительно к персонажу бездействующему и нейтральному: «Один лишь Гелиос прекрасный / Об этом <т. е. тайне убийства> может рассказать».)
Существенны и многозначительны отличия в назывании и описании пространства действия: Жуковский чаще всего использует слово «амфитеатр» и лишь единожды «театр», Заболоцкий — только «театр».
Жуковский сравнивает заполненные публикой скамьи с движущимся в бурю лесом:
И движутся, как в бурю лес,
Людьми кишащи переходы,
Всходя до синевы небес…
Заболоцкий «шумящий лес» заменяет «волнами» и, сохраняя «небеса» как высшую точку движения людей и скамей, сами скамьи обозначает словом «изгибы», то есть указывает на волнообразность ритма и образа движения зрителей:
В театре эллины сидят
Глухошумящие, как волны,
Вплоть до небес движенья полны,
Изгибы тянутся скамей.
(Ср. «Лебедь»: «И светлое льется сиянье / Над белым изгибом спины, / И вся она, как изваянье / Приподнятой к небу волны».)
Иными словами, метафорический ландшафт «Ивиковых журавлей» Заболоцкий выстраивает как полную рифму к сюжетно-заданному водному ландшафту «Журавлей» собственных.
На этом возможности интертекстуального анализа, видимо, исчерпываются. Установленные в ходе него семантические блоки следующие:
Танах: Земля обетованная; журавлиная стая, аллегорически уподобленная Б-гоизбранному народу; вождь, которому не суждено достичь желанной цели.
Лермонтов: причастность происходящего Высшей Силе.
Шиллер: сопряжение журавлей и предательского убийства; театр; лицо, изуродованное гримасой ужаса и мук; водная стихия.
Рылеев: трусливое нападение; гибель предводителя как расплата за царскую милость («дар царя»).
Беда лишь в одном: все эти, достоверно опознаваемые, блоки никак не складываются в единую конструкцию. Поэтому представляется допустимой попытка поиска сюжетной основы стихотворения вне пределов русской и переводной поэзии. И тогда наше внимание привлекает дата написания стихотворения «Журавли» — 1948 год.
В личной жизни Николая Заболоцкого этот год ничем особенным не отмечен — ни плохим, ни хорошим. Жил под Москвой, занимался переводами, в высказываниях был осторожен. А вот в мире внешнем произошли в тот год два события: образование Государства Израиль и убийство Соломона Михоэлса.
И оба эти события связала воедино воля одной личности — Иосифа Сталина. Это по его прямому указанию Советский Союз поддержал создание еврейского государства, и по его приказу был ликвидирован Еврейский антифашистский комитет и физически устранен тот, кто в глазах всего мира являлся национальным лидером советского еврейства. Задумывался ли бывший ученик духовной семинарии над теологическими последствиями своей причастности к возвращению евреев в «отеческую землю» или руководствовался исключительно геополитическими интересами первого в мире социалистического государства?
Единственным свидетельством теологического перепуга Сталина могут служить по его же приказу развязанная беспрецедентная антисемитская кампания и убийство Михоэлса как пролог к ней. Ведь никакого иного идеологического или прагматического (то есть рационального) объяснения «борьбе с космополитами» так и не было найдено!
Две темы — библейская (причем не без внятного христианско-антисемитского акцента — вспомним «Бегство в Египет») и сталинская — характерны для последнего («позднего») периода творчества Заболоцкого.
«Он говорил, — рассказывала <…> Екатерина Васильевна [Заболоцкая, вдова поэта], — что ему надо два года жизни, чтобы написать трилогию из поэм “Смерть Сократа”, “Поклонение волхвов”, “Сталин”. Меня удивила тема третьей поэмы. Николай Алексеевич стал мне объяснять, что Сталин сложная фигура на стыке двух эпох. Разделаться со старой этикой морально, культурно ему было нелегко, так как он сам из нее вырос. Он учился в духовной семинарии, и это в нем осталось»3.
Если наше предположение справедливо, становится понятным сцепление сюжета Исхода с мотивом убийства — это потрясение от ожившей священной истории, в которой на роль Моисея русская реальность не предложила никакой иной фигуры, кроме актера Михоэлса. Понятны тогда и устранение эпитета «прекрасный» из описания лица покойника в «Ивиковых журавлях» — природа не наделила Михоэлса внешней красотой, и настойчивое повторение слова «театр».
С другой стороны, до того, как пасть жертвой самодержца, Михоэлс был властью обласкан и отмечен, в частности, Сталинской премией (1946) и многочисленными орденами. А в ироническом обиходе того времени грудь, украшенная множеством орденов, именовалась «иконостасом». Поэтому мы предполагаем, что «рубашка из металла» в стихе и есть такой «иконостас» государственных наград — тот самый «дар царя», о котором писал Рылеев.
Ни одного слова в стихотворении нельзя заменить. Потому и отказаться от того, что мертвое тело вожака тонет, Заболоцкий никак не мог — убийство продиктовало уже самую первую строфу:
Длинным треугольником летели,
Утопая в небе, журавли.
Оттого и место гибели: «Озеро, прозрачное насквозь…» — опрокинутое небо. Начало и финал «Журавлей» замкнуты в неразрывное кольцо.
А осиротевший журавлиный народ рванулся в вышину — недоступную убийцам обитель свободы. И «там, где движутся светила», им было возвращено:
Гордый дух, высокое стремленье,
Волю непреклонную к борьбе, —
Всё, что от былого поколенья
Переходит, молодость, к тебе.
Перечень этих превосходных качеств определяется как то, что по наследству переходит от уходящего поколения к молодому, — прозрачнейший парафраз библейского выражения «из рода в род» — ми-дор ле-дор.
А вот и неизбежный контекст — книга Исход: «И сказал еще Б-г Моисею: так скажи сынам Израилевым: Г-сподь, Б-г отцов ваших, Б-г Авраама, Б-г Исаака и Б-г Иакова, послал меня к вам. Вот имя Мое на веки, и памятование о Мне из рода в род. <…> И сказал: Я выведу вас от угнетения Египетского в землю <…>, где течет молоко и мед» (3:15, 17).
Память вернулась, и народу был дан знак: он не оставлен, — над телом павшего вождя небесная десница воздвигла путеводный Огненный Столп.
И заря над ним образовала
Золотого зарева пятно.
Удивительная у символов судьба — выпущенные однажды на волю, они в конце концов настигают своего создателя. Сын поэта, Никита Заболоцкий, вспоминал: «В театр и кино отец ходить не любил. <…> Что касается кино, то отец, посмотрев в кинотеатре какой-нибудь фильм, что бывало редко, обычно утверждал, что он ничего не понял. <…> Однако по телевизору отец фильмы иногда смотрел. Почему-то запомнилось, что накануне инфаркта в 1954 году отец смотрел фильм “Юность Максима”, а вечером накануне смерти [в 1958 году] — “Летят журавли”»4.
-----------------------
1. Данин Д. Мы хотим видеть его лицо / / Литературная газета. 27.12. 1947.
2. Кашкин И. Для читателя-современника. М., 1977. С. 478–479.
3. Заболоцкий Н. Н. Жизнь Н. А. Заболоцкого. М.: Согласие, 1998. С. 531.
4. Заболоцкий Н. Н. Об отце и нашей жизни / / Воспоминания о Заболоцком. 2-е, доп. изд. М.: Советский писатель, 1984. С. 269.