В серии "Чейсовская коллекция" издательства "Текст" выходит книга историка литературы Бориса Фрезинского "Мозаика еврейских судеб. ХХ век". Она содержит три десятка очерков, герои которых - люди как общеизвестные (Натан Альтман, Соломон Михоэлс, Илья Ильф, Василий Гроссман), так и куда менее знаменитые. Но все они жили в ХХ веке – веке мировых катастроф – и работали преимущественно на территории Российской империи или СССР. Букник публикует главу о Викторе Шкловском.

Отец Шкловского натаскивал тупых учеников по математике. Николай Чуковский (сын Корнея Ивановича) брал у него уроки и «Школу Б. Шкловского» с единственным учителем помнил долго: «Это был маленького роста бритый старик с большой лысиной, окруженной лохматыми, не совсем еще седыми волосами. Вид у него был свирепейший. Во рту у него оставался один-единственный зуб, который, словно клык, торчал наружу. Когда он говорил, он плевался, и лицо его морщилось от брезгливости к собеседнику. Но человек он был необходимейший — любого тупицу он мог подготовить к вступительному экзамену в любое учебное заведение, и ученики никогда не проваливались». Из трех братьев Шкловских, помимо Виктора Борисовича, вспоминают еще старшего — Владимира (родился в 1889-м; после третьего ареста расстрелян в 1937-м), тоже филолога; и еще Корней Чуковский упоминает их дядюшку Исаака Владимировича Шкловского, питерского журналиста, критика и этнографа, писавшего под псевдонимом Динео, а после революции эмигрировавшего. 8 июня 1914 года Чуковский записал в дневнике: «Пришли Шкловские — племянники Динео. Виктор похож на Лермонтова — по определению Репина (в 1914 году Репин сделал рисованный портрет Виктора Шкловского, еще курчавого и в студенческой тужурке — БФ). А брат — хоть и из евреев — страшно религиозен, преподает в духовной академии французский язык — и весь склад имеет семинарский».
Виктор Шкловский, после нескольких и, кажется, безрадостных для него училищ и гимназий, поступил в Петроградский университет, на филологический факультет. Там работали тогда великие ученые, и В.Б. любил потом рассказывать про академика И.А. Бодуэна де Куртенэ. Учась в университете, Шкловский организовал ОПОЯЗ — Общество по изучению поэтического языка — и в нем легко стал лидером, потому что таков был его темперамент и дар легко генерировать новые идеи. Один из главных лозунгов Шкловского: содержание литературного произведения равно сумме его стилистических приемов; не менее знаменита и другая его формула: сюжет есть явление стиля.
Рядом с ним были великие лингвисты, были друзья Эйхенбаум (его работа «Как сделана “Шинель” Гоголя» стала фундаментом нового литературоведения) и Тынянов (ставший автором великих исторических романов и, в отличие от Шкловского, писавший не о себе), был Роман Якобсон, чье имя даже не упоминается в мемуарах Шкловского «Жили-были» (Якобсон не простил Шкловскому измены молодости и вернул ему все надписанные книги). В то время в жизни Шкловского ОПОЯЗ существовал вперемежку с футуристами. Генерируя идеи, Шкловский хотел объяснить все сразу. Книги (тогда это были тоненькие брошюрки) он писал с тех лет. Его интересовала и жизнь новой литературы. Сокрушая символизм, он сблизился с Хлебниковым и Маяковским; при этом еще занимался скульптурой и показывал ее Кульбину. Но скульптором не стал, как не стал и ученым, а стал писателем. Точнее, ученые считали его писателем, а писатели — ученым. И правда, Шкловский — писатель, писавший только о себе и о своих идеях про литературу, но зато он выработал свой энергичный стиль и его можно узнать по одной фразе. На него написано немало пародий, и кажется, что пародировать Шкловского — дело нетрудное.

Началась война 1914 года, и Шкловский записался в автомобильную роту. Дело было новое, и он им овладел. Все ближайшие годы оказались связаны с колесами — автомобили, самокаты, броневики, хотя за плечами у Шкловского было несколько книжечек, статьи, преодоленная попытка стать скульптором-футуристом, ОПОЯЗ и титул некоронованного главы формальной школы. Теперь набирался еще и боевой опыт — лихой.
Это именно Шкловский в феврале 1917 года вывел на улицы восставшего Петрограда броневой дивизион. Это именно он был назначен Временным правительством комиссаром на румынский фронт. Это именно он поднял там в атаку батальон, был ранен и награжден Георгиевским крестом, который вручил ему лично генерал Корнилов. Это именно он был направлен в Иран воевать с турками в составе небольшой русской армии («Сердце мое в этой стране было истерто так, как истирают жесткую дорогу мохнатые лапы верблюдов», — признался Шкловский в книге «Жили-были»). Это именно он, вернувшись в Россию после октябрьского переворота, связался с эсерами и готовил ответные акции в пору процесса над видными деятелями эсеровской партии. Это именно он в 1922-м бежал от всех засад ГПУ с фантастической дерзостью и смелостью. Все это именно он — Виктор Борисович Шкловский, в молодости «безрассудно смелый человек», как скажет о нем в «Эпилоге» ставший на старости лет его резким оппонентом Вениамин Каверин.
В 1921-м и в начале 1922-го Виктор Шкловский входил в Серапионово братство, хотя в более поздних справках о Серапионах Шкловского в их группе не числят. Между тем, доказательств принадлежности Шкловского к Серапионовым братьям немало: 1) Как положено настоящему Серапиону, Шкловский имел прозвище: Брат-Скандалист (в 1929 году Каверин напишет роман «Скандалист, или Вечера на Васильевском острове», где Некрылов-Шкловский — главное действующее лицо); 2) Справка журнала «Летопись Дома Литераторов», где в перечислении сказано: «Членами общества являются также критики и теоретики поэтического языка — И. Груздев и Виктор Шкловский»; 3) Сообщение не со стороны, а от самих Серапионов — в № 2 альманаха «Дом Искусств» объявлялся состав подготовленного ими альманаха братства и в нем значилось: статьи В.Шкловского…»; 4) Громкое заявление в полемической статье Льва Лунца «Об идеологии и публицистике»: «Виктор Шкловский — Серапионов брат был и есть»; 5) Константин Федин, внутренне не любивший формалистов (а Шкловский был их признанным вождем), в книге «Горький среди нас» (1944), перечисляя старших товарищей, влиявших на Серапионов, признает: «И, конечно, это был Виктор Шкловский, считавший себя тоже “серапионом” и действительно бывший одиннадцатым и, быть может, даже первым “серапионом” — по страсти, внесенной в нашу жизнь, по остроумию вопросов, брошенных в наши споры»; 6) Шкловский выступал на обоих Серапионовских вечерах в Доме Искусств (19 и 26 октября 1921 года)…
Остановлюсь не потому, что иссяк, а потому, что — хватит.
Конечно, Шкловский — особый Серапион: и Брат, и Учитель. Хотя Учителем он был, возможно, не для всех, но ход его мыслей всех захватывал. Бывавшая на собраниях Серапионов художница Валентина Ходасевич в книге «Портреты словами» описывает это так: «Шкловский — человек внезапный, когда он начинает говорить, то мысль его взрывается, бросается с одного на другое толчками и скачками, иногда уходит совсем от затронутой темы и рождает новые. Он находит неожиданные ассоциации, будоражит вас все больше, волнуется сам, заинтересовывает, захватывает и уже не отпускает вашего внимания… Мне иногда кажется, что у меня делается одышка, как от бега или волнения, когда я его слушаю. Я не знаю, как определить, но самый процесс работы его мозга очень ощутим…».
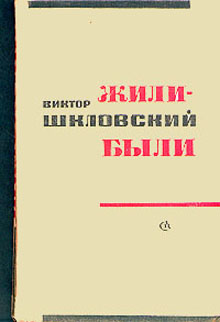
Серапионство Шкловского оборвалось в марте 1922 года — трагически. Он вынужден был бежать от лап ГПУ за границу. 16 марта писал Горькому: «Надо мной грянул гром. Семенов напечатал в Берлине в своей брошюре мою фамилию. Меня хотели арестовать, искали везде, я скрывался две недели и наконец убежал в Финляндию… Жена осталась в Питере, боюсь, что она на Шпалерной». Но и в этом отчаянном положении Шкловский из финского «карантина» регулярно писал Алексею Максимовичу, поминая Серапионов: «Серапионы остались в России в печали и тесноте»; «Скучаю по жене, Тынянову, по Серапионам»; сообщая, что жену освободили под залог, который внесли литераторы, он подчеркивает: «Главным образом Серапионы»; «У Серапионов наблюдается следующее. Бытовики: Зощенко, Иванов и Никитин обижают сюжетников: Лунца, Каверина, Слонимского. Бытовики немного заелись в “Красной нови”, а сюжетники ходят пустые, как барабаны без фавора и омажа. Я написал уже об этом туда письмо, но этого мало».
Вскоре Горький помог Шкловскому перебраться из Финляндии в Берлин.
Раздумывая над годами своей военно-политической работы и над судьбой России, Шкловский 15 апреля 1922 года писал Горькому, как никогда прямо: «Мой роман с революцией глубоко несчастен. На конских заводах есть жеребцы, которых зовут “пробниками”. Ими пользуются, чтобы “разъярить” кобылу (если ее не разъярить, она может не даться производителю и даже лягнуть его), и вот спускают “пробника”. Пробник лезет на кобылу, она сперва кобенится и брыкается, потом начинает даваться. Тогда пробника с нее стаскивают и подпускают настоящего заводского жеребца. Пробник же едет за границу заниматься онанизмом в эмигрантской печати. Мы, правые социалисты, “ярили” Россию для большевиков». Этот образ “пробников” не раз потом еще будет использоваться им, но только по другим поводам.
И еще две цитаты из тогдашних писем Шкловского Горькому: «У меня нет никого. Я одинок. Я ничего не говорю никому. Я ушел в науку “об сюжете”, как в манию, чтобы не выплакать глаз. Не будите меня». И: «Если бы коммунисты не убивали, они были бы все же не приемлемы».
Кто в Петрограде до побега Шкловского мог догадаться о его самоощущении?

В 1922—23 годах в Берлине Шкловским были написаны две замечательные книги: «Сентиментальное путешествие» и «Zоо, или Письма не о любви».
«Сентиментальное путешествие» — мемуары, и идет в них речь о жизни автора в войну и революцию; название двух частей («Революция и фронт» и «Письменный стол») говорят сами за себя. В отличие от мемуаров, написанных через сорок лет, здесь не было ничего о детстве и были сердечные слова о Серапионах, но главное — это повествование о войне и революции, повествование свободного художника.
У книги «Zoo» было еще третье название: «Новая Элоиза». Оно связано не с Руссо, а с Эльзой Триоле — Шкловский включил в книгу ее письма. В сестру Лили Брик Эльзу он был безответно влюблен. Завершив работу над «Zoo», Шкловский писал Эльзе: «Книжка, кажется, удалась, во всяком случае это лучшее, что я написал. Спасибо тебе за это, Эльза. Пишу без надрыва... У меня был прогрессивный паралич любви, и он разрушил мою нравственность. Но дело не безнадежно. Я умею работать, Эльза, умею писать… Твои письма настолько хороши, что у меня к ним чувство соперничества». Опубликовав ее письма, Виктор Борисович внушил Эльзе, что у нее есть литературный дар. Поверив этому и написав две книжки по-русски, Эльза Триоле (она носила фамилию первого мужа, француза, с которым уже разошлась) затем перешла на чужой для нее французский язык и во время Второй мировой войны стала известной французской писательницей, к тому же воспетой в стихах ее вторым мужем Луи Арагоном. А Виктору Шкловскому в Берлине не оставалось ничего другого, как всерьез думать о своем будущем. Впрочем, судьба его будущего решилась заключительным письмом в книге «Zoo». Это письмо имело неожиданный адрес, потому что оно называлось «Обращением во ВЦИК СССР», и столь же определенное содержание: «Я не могу жить в Берлине. Всем бытом, всеми навыками я связан с сегодняшней Россией. Умею работать только для нее. Неправильно, что я живу в Берлине. Революция переродила меня, без нее мне нечем дышать. Здесь можно только задыхаться… Я хочу в Россию. Все, что было — прошло, молодость и самоуверенность сняты с меня двенадцатью железными мостами. Я поднимаю руку и сдаюсь».
Вениамин Каверин в книге «Эпилог» именно словами «Я подымаю руку и сдаюсь» назвал главу, посвященную Шкловскому, придав этим словам глубоко символический и как бы пророческий смысл. Из 1922 года усмотрел Каверин «сдачу» Шкловского, приобретшую отчетливые внешние черты лишь в 1930-е годы.
Дружба Шкловского с Горьким знала свои приливы и отливы; в Берлине они, в итоге, поссорились, и в 1925 году Горький писал Федину резко: «Шкловский — увы! “Не оправдывает надежд”. Парень без стержня, без позвоночника и все более обнаруживает печальное пристрастие к словесному авантюризму. Литература для него — экран, на котором он видит только Виктора Шкловского и любуется нигилизмом этого фокусника. Жаль». С позвоночником тогда были уже проблемы и у самого Горького, но это совсем другой сюжет…
В 1929 году друг Шкловского, не писавший прозы, Б.М.Эйхенбаум утверждал в книге «Мой современник»: «Шкловский совсем не похож на традиционного русского писателя-интеллигента. Он профессионален до мозга костей — но совсем не так, как обычный русский писатель-интеллигент… В писательстве он физиологичен, потому что литература у него в крови, но совсем не в том смысле, чтобы он был литературен, а как раз в обратном. Литература присуща ему так, как дыхание, как походка. В состав его аппетита входит литература Он пробует ее на вкус, знает, из чего ее надо делать, и любит сам ее приготовлять и разнообразить».
Бенедикт Сарнов в емкой статье «Виктор Шкловский до пожара Рима» вспоминает свой разговор со Шкловским в начале 1960-х годов, свои жалобы как раз на то, что «время виновато», и сокрушительный ответ Виктора Борисовича: «Понимаете, когда мы уступаем дорогу автобусу, мы делаем это не из вежливости». Образ, что и говорить, производит впечатление, но, если бы все так боялись автобуса, он бы никогда не сделал перерыва в своих безжалостных наездах на нас…

Шкловскому повезло — его не арестовали; в 1939 году он даже получил орден Трудового Красного знамени — это надо было заслужить. И все же орден — далеко не вся правда о Шкловском. В страшные годы террора «в Москве был только один дом, открытый для отверженных», — таково дорогого стоящее признание в «Воспоминаниях» Н.Я. Мандельштам, оно — о доме Шкловского. Исключительно сердечно, что ей в общем-то не свойственно, пишет Н.Я. о Василисе Георгиевне Шкловской…И еще одно важное свидетельство вдовы Мандельштама о времени террора: «Шкловский в те годы понимал всё, но надеялся, что аресты ограничатся “их собственными счетами”. Он так и разграничивал: когда взяли Кольцова, он сказал, что это нас не касается, но тяжело реагировал, если арестовывали просто интеллигентов. Он хотел сохраниться “свидетелем”, но, когда эпоха кончилась, мы уже все успели состариться и растерять то, что делает человека свидетелем, то есть понимание вещей и точку зрения. Так случилось и со Шкловским».













