По утрам, направляясь на работу в Еврейский общинный центр Вюрцбурга, я прохожу мимо вывески с надписью Jehuda Amichai Strasse. Много лет назад тут бегал в школу и играл с друзьями мальчик по имени Людвиг Пфойфер. Тогда он еще не знал, что станет выдающимся израильским поэтом и его стихи будут переведены на сорок языков. В мае этого года ему исполнилось бы 87 лет.
В статье «Мой иудаизм» Иегуда Амихай писал:
 Родители Иегуды -- Фридрих и Фрида Пфойфер
Родители Иегуды -- Фридрих и Фрида Пфойфер
Однако этот вопрос можно поставить по-другому: какова идеальная биография для поэта? Говоря о себе и о своем жизненном пути, я полагаю, что детство в религиозной и даже строго ортодоксальной семье само по себе делает поэтом. Множество заповедей и запретов, молитвы, праздники и дни постов оставляют мало времени для бесцельных игр. Однако все эти обычаи и деяния «поэтичны», они — правила той игры высокого порядка, которая абсолютно соответствует детскому сердцу.
Амихай происходил из религиозной семьи. Его предки жили в Южной Германии еще со Средневековья. Бабушки и дедушки с обеих сторон были людьми глубоко верующими и соблюдающими заповеди. По словам поэта, их иудаизм был наивным, почти по-детски простым, без философии и науки.
…Родители всех моих родных лежат на полуразрушенных еврейских кладбищах
в Нижней Франконии, между лесами и ручьями.
<…>
Дедушка, владевший еврейской, глазастой коровой,
Ты вставал в четыре каждое утро,
Это от тебя я унаследовал привычку рано просыпаться.
Дедушка, дедушка, главный раввин моей жизни,
Продай мои боли, как дрожжевой хлеб,
Что продавал ты накануне Песаха.
Так много надгробных камней разбросано в прошлом моей жизни.
Имена, высеченные на них, как названия покинутых железнодорожных станций…
(пер. с немецкого Р. Кон)
 Отец -- солдат I Мировой войны
Отец -- солдат I Мировой войныАмихай всю жизнь хранил в памяти картины из детства. Шаббат, когда после обеда в пятницу одна за другой прекращались все работы по дому. Это постепенное затихание и замедление, наполненное ожиданием, он сравнивал с музыкальным приемом ритардандо. Встреча субботы, трубление в шофар, свитки Торы, которые обнимают, целуют и несут через синагогу, словно любимых детей, ханукальные свечи, строительство шалашей немецкой холодной осенью в память о сорокалетнем странствовании по пустыне в Землю Обетованную.
Евреи читают Богу Его Тору,
весь год, по нескольку глав в неделю,
чтобы затянуть время, как Шахерезада.
А к Празднику Торы Бог забывает все,
и можно читать то же самое с начала.
(Пер. с иврита А. Графова)
 С сестрой
С сестройЛюдвиг Пфойфер совершенно естественно существовал в двух мирах — внешнем и внутреннем. «Ощущение инакости и чуждости внешнему миру не мешало мне чувствовать себя очень хорошо в прекрасном городе Вюрцбурге. Я любил улочки и старые дома, гулял по окрестностям, а леса и ручьи, река и мосты, виноградники и звон колоколов были одними из самых лучших впечатлений моего раннего детства. Еврейская школа и синагога очерчивали внутренний круг, центром которого был родительский дом, а в нем мать — домоправительницей Б-га, отец — его заместителем. Слова молитвы Авину Малкейну (Отец наш, царь наш), произносимой в Грозные дни, были для меня не только молитвенно-поэтической метафорой: я пришел к наивному заключению, что мой отец также может быть моим Б-гом».
Память о моем отце
завернута в белую бумагу,
словно ломтик хлеба,
что берут с собой на работу.
Как фокусник достает из шляпы
всякую смешную живность,
так из своего тщедушного тела
отец извлекал любовь.
Его руки, как щедрые потоки,
несли в мир добро.
(пер. с иврита А. Графова)
 Первый школьный день
Первый школьный деньОдна из дочерей Зигмунда Ганновера, которую в семье звали «маленькая Рут», была ровесницей и подругой Иегуды. Дети ходили в один и тот же детский сад, потом в школу. «Эта дружба, определившая всю мою жизнь, была <…> с одной стороны, игрой, а с другой — любовью без секса», — рассказывал Амихай своему другу Дэну Омеру. Рут и Иегуду в шутку называли «жених и невеста».
В 11 лет Рут сбил автомобиль, когда она ехала на велосипеде по одной из улиц города. Девочке ампутировали ногу чуть выше колена, и ей пришлось носить протез. По словам Амихая, это было самой большой травмой в его детстве. В то время к власти в Германии уже пришли национал-социалисты, и положение евреев заметно ухудшилось. Вюрцбург не был исключением. Иегуда вспоминал:
Нацисты маршировали по улицам города. Мы старались избегать встреч с ними, потому это всегда грозило побоями. Однажды по дороге домой из школы на нас с Рут напали мальчишки из гитлерюгенда. Нас было только двое, а их намного больше, ведь они трусы — всегда трое или четверо против одного. В нашем небольшом городе многие знали друг друга, и этим юнцам было хорошо известно, что у Рут протез, что она беспомощна, но это их не остановило. Нас повалили на землю, и я услышал металлический лязг и скрежет ее протеза, который они пинали сапогами... Эти воспоминания, возможно, незначительны по сравнению с Аушвицем и Дахау, однако они живут во мне глубоко и остро.&&
 С Рут Ганновер
С Рут ГанноверПфойферы покинули Вюрцбург в июле 1936 года. Отъезд не был поспешным и временным. Они не собирались через короткое время, когда все будет позади, и жизнь потечет, как и прежде, вернуться в Германию. Члены большой семьи намеревались «взойти в страну», совершить алию и обосноваться на земле Израиля. Поэтому домашняя утварь была роздана, мебель и ковры отправлены, и начался длинный путь, полный самых неожиданных и незабываемых впечатлений, позже описанных Амихаем: носильщик на венецианском вокзале, просвистевший — подобно паролю — первые такты «Атиквы», отель, где семейству пришлось провести под аккомпанемент нацистских песен, распеваемых в соседних номерах, а затем Триест и посадка на пароход, направлявшийся в Хайфу. По прибытии родители склонились на колени, чтобы поцеловать серый бетон Святой земли — как это делали до них многие поколения евреев.

Пока предпринимались лихорадочные, но безуспешные попытки получить иммиграционные разрешения, стало известно, что община Мюнхена организовала транспорт еврейских детей в Голландию, и на семейном совете было решено отправить Рут в Амстердам, откуда ее собирались забрать, как только будет получена виза для въезда в Америку или Англию.
Рут жила по очереди в приемных семьях и продолжала посещать школу. Она писала, по словам Амихая, замечательные письма ему и своей семье, надеясь вскоре увидеть близких. Наконец, виза в Соединенные Штаты была получена, однако Рут из-за ее инвалидности отказали во въезде. А в мае 1940 года немцы оккупировали Голландию. Рут, как большинство голландских евреев, в том числе и семья Анны Франк, оказалась в транзитном лагере Вестерборк, откуда 18 мая 1943 года была отправлена в лагерь смерти Собибор. Девушке не исполнилось и двадцати лет.
Память о маленькой Рут сопровождала Амихая всю жизнь. В одном из интервью он сказал:
&&Для меня не существует понятия «раньше» или «позже». Время — пространство, в котором я двигаюсь вперед или назад с легкостью. Я не отделяю себя от Рут так же, как я не могу отделиться от самого себя. <…> Возможно, я испытываю по отношению к ней то же чувство вины, что и солдаты, вернувшиеся живыми с битвы, где полегли их друзья. Сегодня она часть меня, как и мои родители. Рут — моя личная Анна Франк.
Образ Рут Ганновер присутствует в его автобиографическом романе «Не ныне и не здесь», ей посвящены многие стихотворения. На текст одного из них написала песню живущая в Германии израильская певица Ницца Тоби, хорошо знавшая Амихая. Песня входит в цикл «Чемодан говорит», посвященный памяти жертв Холокоста.
Я вспоминаю тебя, маленькая Рут.
Наши пути в далеком детстве разошлись,
Тебя уничтожили в лагере.
Если бы ты осталась в живых, то была бы теперь 65-летней женщиной, стоящей на пороге старости.
В 20 лет тебя убили, и я не знаю, что произошло в твоей короткой жизни с тех пор, как мы расстались.
Что произошло с теми годами, что ты не использовала?
Возможно, они были добавлены к моей жизни?
Ты превратила меня в хранилище своей любви, подобное швейцарским банкам, хранящим ценности и после смерти их владельцев.
Ты отдала мне свою жизнь, как торговец вином, который делает пьяными других, сам оставаясь трезвым.
Подобно тому как в аэропорту усталые путешественники стоят перед движущимся транспортером и, встречая свой багаж криками радости, будто это воскресший мертвец, уходят продолжать свою жизнь, а один чемодан исчезает и медленно возникает вновь и вновь в опустевшем зале, так мимо меня проплывает твой тихий образ, так я вспоминаю тебя, пока лента не остановится.
(Пер. с немецкого Р. Кон)
 Большая семья приехала в Эрец-Исраэль
Большая семья приехала в Эрец-ИсраэльВ Петах-Тикве тринадцатилетний Иегуда отпраздновал свою бар-мицву и впервые вышел к Торе в маленькой синагоге общины немецких евреев Макор хаим (источник жизни), одними из основателей которой стали его отец и дядя.
Община продолжала службы по ашкеназским молитвенникам. Проповеди раввина, д-ра Вольфа из Кельна, велись по-немецки. Произошло почти невероятное: язык, на котором Гитлер произнес свою первую речь, стал для меня языком иудаизма, тогда как святой язык был повседневным языком окружающей среды, улиц, игровых и спортивных площадок, работы и земледелия. Много лет спустя я написал стихотворение:
Мы говорим на этом усталом языке, который столько веков спал в Танахе.
Разбуженный, щурясь от яркого света, он растерянно бродит среди нас.
Прежде он рассказывал о Б-ге, о чудесах, а теперь — об автомобилях, о взрывах, снова о Б-ге.
(Пер. с иврита А. Графова)
Мой отец никак не мог понять, почему на еврейской земле так мал процент правоверных евреев. Это же так просто — выполнять все заповеди в стране, где шаббат — официальный выходной, где нет антисемитизма. Я думаю, он действительно не мог осознать, что как раз трудности, враждебность и преследования сделали больше для сохранения ортодоксального иудаизма в европейской эмиграции, чем свободная еврейская Палестина, позже Израиль.
 Страница классного журнала с портретом и заметкой Иегуды
Страница классного журнала с портретом и заметкой ИегудыАмихай вспоминал: «У нас было сплоченное классное сообщество. Поэтому не было необходимости присоединяться к какому-то молодежному движению. Почти у каждого из нас были родственники в кибуце или мошаве. Мы совершали туда прогулки, знакомились с жизнью пионеров-переселенцев халуцим и даже иногда участвовали в сельскохозяйственных работах. В 15 лет я, как и некоторые дети в классе, перестал быть религиозным. Молитвы показались мне бесконечно скучными и однообразными. Я носил кипу, ходил с отцом по праздникам в синагогу, но этим все и ограничивалось. Если по будням удавалось уклоняться от молитвы, то я уклонялся. Начался переходный возраст, возникли вопросы о смысле и цели жизни, вопросы о божественной справедливости. Мой отец воспринимал все это очень болезненно, что, в свою очередь, доставляло мне боль».
Однажды в субботний вечер, летом, —
к небу восходили молитвы и запах съестного,
крылья ангелов шелестели над миром, —
я, ребенок, впервые солгал отцу —
сказал ему: «Я был в другой синагоге».
Поверил ли он? Не знаю.
Но обман был сладок в устах моих.
И во всех домах в тот вечер
субботние песни звучали как ложь,
ложь, пропетая ради услады.
И во всех домах в тот вечер
погибли ангелы — как мошки в огне свечи.
А влюбленные, прижав губы к губам,
дули друг в друга и, словно шарики, взлетали,
а после — лопались.
И с тех пор обман сладок в устах моих,
и с тех пор я всегда хожу в другую синагогу.
А отец, умирая, отплатил мне ложью за ложь.
«Ухожу в другую жизнь», — сказал он мне.
(пер. с иврита А. Графова)
 Рут Фальк
Рут Фальк
«Когда в 1939 году разразилась война, мне исполнилось 15 лет. Взрослые были чрезвычайно серьезны. Мы же — наоборот, зная, что не останемся в стороне, когда это будет действительно необходимо, пока наслаждались жизнью. Даже в 1942 году, когда мои родители были полны тревоги, потому что наступление Роммеля делало угрозу германского вторжения в Палестину вполне реальной, <…> для меня самым важным была первая любовь».
Первую большую любовь Иегуды тоже звали Рут, Рут Фальк. Она была его одноклассницей.
Рут, как и Иегуда, была йеке, жила в Гамбурге, в 14 лет вместе с родителями эмигрировала в Израиль. Одноклассник Амихая, радиожурналист Аарон Ариэль рассказывал: «Иегуда был звездой класса, весельчаком, балагуром, отличным спортсменом. Он неизменно участвовал во всем: в постановке оперы, выпуске юмористической стенгазеты и в радиопередаче о классной и школьной жизни, выступал на праздниках в пантомиме и музицировал на флейте и скрипке. Именно по его инициативе мы начали вести классный журнал-дневник, где Иегуда иллюстрировал свои заметки своими же рисунками. А Рут была красива, доброжелательна, интересна внутренне, и от нее были без ума не только одноклассники, но и вся школа, даже учителя».
Поначалу Рут плохо знала иврит, поэтому Иегуда помогал ей с домашними заданиями. Немецкий, на котором они говорили, стал для юноши языком души. В 12 классе между ними, едва достигшими восемнадцатилетия, вспыхнула пламенная любовь:
Я относился к нашим отношениям очень серьезно. Однажды пришел к Рут и сказал, что хочу на ней жениться. Я считал тогда, что это единственная возможность не потерять ее, ведь она была очень красива и все за ней ухаживали. В 18 лет, когда моя первая любовь была в разгаре, я записался в британскую армию. Служа в береговой охране, убегал к моей подруге, которая проводила социальный год в кибуце, и возвращался поздно ночью. Поэтому война и любовь для меня всегда связаны, и в воспоминаниях, и в стихах.
 Амихай -- боец Пальмаха (1948)
Амихай -- боец Пальмаха (1948)Была еще и третья Рут — Рут Герман, с которой Амихай познакомился в Израиле на педагогических курсах для уволенных в запас. «У меня была подруга, как и я, воевавшая в британской армии, и ее тоже звали Рут. Мы вместе учились, даже поехали вдвоем в 1946 году на практику и решили связать свои жизни. Тогда было обычным делом менять свои фамилии на новые, ивритские. Моя фамилия была Пфойфер, и точно так же, как примеряют пуловер, мы примеряли фамилии, которые подходят к именам Иегуда и Рут. Нам подошла фамилия «Амихай» (мой народ живет), потому что звучала социалистически, сионистки и оптимистично. Но мы расстались, и эта фамилия досталась мне одному».
В стихотворении «Взмах крыльев истории» Амихай писал: «...за пять шиллингов я поменял имя отцов моих в изгнании на гордое имя на иврите, что подошло ей. Эта блудница убежала в Америку и вышла замуж за человека, торговавшего перцем, корицей и кардамоном, оставив меня с моим новым именем и с войной».
 С женой Ханной и сыном Давидом
С женой Ханной и сыном ДавидомИегуда долгое время ничего не знал о ней, а когда уже стал известным поэтом, его пригласили выступить в Нью-Йорке. В конце вечера к нему обратилась женщина, которую он не узнал, и представилась: Рут Герман. Она рассказала, что все эти годы жила в Нью-Йорке и работала учительницей.
Но это произошло много лет спустя, а до того была учеба в Иерусалимском университете, затем преподавание в нем, а также в университетах в США, участие еще в трех войнах, два брака и рождение детей — двух сыновей и дочери, о которых он писал: «Я типичный человек двадцатого столетия, а мои дети, вероятно, большую часть своей взрослой жизни проведут в третьем тысячелетии. У меня есть чувство, что они подобны ракетам дальнего действия, которые я запустил в будущее, не сумев снабдить достаточным провиантом и топливом. Я не могу им дать с собой то, что мне дал мой отец, то есть не могу предложить им биографию, которая сделала бы их поэтами, но полагаюсь на силу истории и надеюсь, что они как-нибудь доберутся до цели».
Тяжелая работа — жизнь. Семь лет и еще семь
работал Иаков за Рахиль, любимую свою.
Уже много раз по семь лет работаю я
за любимую свою жизнь, за любимую смерть.
Родители меня любили
и прятали от меня свое горе.
Они умерли, а мне досталось
все спрятанное горе.
А вдобавок и сам я научился
прятать горе от детей.
Что делать с такими сбереженьями?
«Мы за тобой присмотрим!» —
так говорили родители.
То строго, а то ласково:
«Мы за тобой присмотрим».
«Ты еще научишься!» —
восклицали они в гневе.
Но потом утешали:
«Ты еще научишься».
«Можешь делать все, что хочешь», —
вздыхали, устав спорить.
И — как песня добрых ангелов:
«Ты свободен — делай, что хочешь».
«Но ведь ты и сам не знаешь,
чего ты действительно хочешь.
Ты и сам не знаешь, сынок».
(пер. с иврита А. Графова)
 С дочерью
С дочерьюВ начале 80-х годов Иегуда Амихай был отмечен двумя наградами — мирными, но значимыми для него не менее военных: он стал первым лауреатом Государственной премии Израиля в области поэзии, а также получил премию Вюрцбурга в области культуры. В благодарственной речи родному городу он сказал: «В Иерусалиме я живу в старом доме между новым и старым городом. Возможно, эта жизнь между старым и новым сделала меня поэтом. Мой отец воевал четыре года во время Первой мировой, я был солдатом четырех войн в Израиле, а мой сын ребенком играл нашими военными наградами, не зная, что обозначают эти блестящие яркие предметы, лежавшие в маленькой коробочке, в которой смешались история и нелепости человеческой жизни. Может быть, это тоже сделало меня поэтом.
Есть два народа, которые не имеют права на забвение, немецкий и еврейский. Нам всем это необходимо, чтобы пережить, жить дальше и исцелиться.
В Иерусалиме был осушен древний водяный резервуар и превращен в естественный амфитеатр, где проходят концерты. Великолепная акустическая установка, благодаря которой слушатели могут наслаждаться прекрасным звучанием, установлена вюрцбургской фирмой.
Едва ли можно привести лучший пример исцеления, чем это сотрудничество для музыки и красоты».
В 1987 году в Вюрцбурге была обнаружена бесценная находка, хранящаяся теперь в музее общинного центра «Шалом Европа»: самое большое в мире собрание надгробных плит средневекового еврейского кладбища, такого же, как то, на котором погребены предки Амихая. Один из основателей музея, профессор теологии Карлхайнц Мюллер, подарил поэту небольшой каменный фрагмент мацевы. Амихай не расставался с ним до самой смерти в 2000 году.
&&
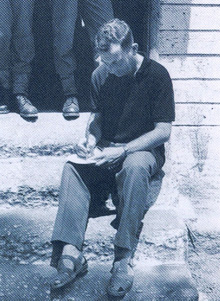 В 60-е годы
В 60-е годыобломок надгробья с еврейского кладбища, разрушенного почти тысячу лет назад, в городе, где я родился.
Единственное слово — «Амен» — глубоко отпечаталось в камне.
«Амен» — тяжело и бесконечно над всем, что было и никогда больше не вернется.
«Амен» — мягко, как в молитве.
«Амен» — да сбудется Его воля!
Надгробье разбито. Слова исчезают и забываются.
Губы, что произнесли их, превратились в пыль.
Что однажды было сказано, умирает, как люди.
Другое же сказанное — воскресает.
Боги изменяются в небесах. Боги появляются и исчезают.
Молитвы остаются навсегда.
И хотя мне известно обо всем и о конце дней тоже,
Этот камень у меня на столе дарит мне спокойствие.
Он камень истины, которая не меняется.
Камень мудрости — мудрее любого философского камня.
Обломок разбитого надгробья,
он все же полнее, чем любая беспредельность.
Камень - свидетель всех событий, что произошли с незапамятных времен,
и всех, что еще произойдут в вечности.
Камень благословления и любви.
«Амен, амен» и да сбудется Его воля.
(Пер. с немецкого Р. Кон)&&












