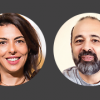Московский музей современного искусства (ММОМА) до 26 января проводит проект «Гробман: 4 выставки». В недавнем интервью «Букнику» Гробман говорил о своем восприятии еврейского искусства и о своей роли в нем. Сейчас мы рекомендуем всем сходить на выставку и публикуем фрагмент из книги куратора выставки Лели Кантор-Казовской «Гробман. Grobman» — начало главы «Гробман и идея современного еврейского искусства».
***
Гробман, художник еврейский,
Но он совсем не Шагал
С тайной своей чародейской
Взял он да и зашагал.
Мистика — вот основное.
Мистика — вовсе не блажь
Все же другое, иное
Чуждо ему — и шабаш.
Гробман художник! Вот то-то!
Знает он всех и про все…
Пусть там Шагал где-то, что-то —
Гробман в Москве! Ну и все!
Е. Л. Кропивницкий. 1970
Гробман и идея современного еврейского искусства
Московский период Гробмана завершился эмиграцией. Многие «левые» художники, считая себя частью западного художественного мира, стремились и уезжали на Запад; Израиль нередко оказывался для них перевалочным пунктом. Но в случае Гробмана переезд в Израиль был частью его художественного проекта и узловым моментом на пути осуществления его намерений, сложившихся еще в московский период. Магистральной идеей, которую он разработал, была его собственная оригинальная стратегия создания «современного еврейского искусства», и он считал Израиль наиболее подходящей ареной для масштабной реализации этих планов. Кажется, что возникновение у художника этой темы непременно должно быть вызвано потребностью подчеркнуть свое происхождение и свои корни, потому что такого рода работа с национальной самоидентификацией характерна для современной нам художественной практики. А в 1950–1960-е годы исследование проблемы еврейского искусства имело и другой смысл. Об этом свидетельствует интерес к ней, приблизительно в это же время проявлявшийся по ту сторону «железного занавеса»: о том, что такое «современное еврейское искусство», писали известные нью-йоркские художественные критики в связи с абстрактным экспрессионизмом и более новыми течениями. При этом основной темой их теоретического дискурса о еврейском искусстве было не национальное чувство, а эстетическая сущность радикального отказа от репрезентации. Полной информации о том, что писалось на эту тему в Нью-йорке, у Гробмана, конечно, не было, поэтому мы (как и в случае с открытием Кропивницким его новой поэтики) можем говорить о «синхронизации» или неслучайном совпадении событий, обусловленном наличием общих источников и просачиванием косвенных данных и индикаций, которые теперь очень трудно отследить.
Говоря об общих источниках или общей исходной точке для проектов современного еврейского искусства по разные стороны «железного занавеса», я имею в виду не национальные корни, а философские предпосылки интереса к этой проблеме в Новое время. Причина того, что и эта проблема, и проекты, предлагающие ее решение, стабильно возникали на протяжении новой и новейшей истории, заключается в энергии, с которой — на философском основании — многократно отрицалась сама возможность существования еврейского искусства, причем как в положительном, так и во враждебном евреям смысле. Принципы, на которых зиждилось это отрицание, можно условно связать с двумя линиями рассуждений. Первая линия возникла в эстетической теории Канта. Эта теория состоит, как известно, из «аналитики прекрасного» и «аналитики возвышенного», и как раз последняя включает в себя идею иудейского «антииконизма», то есть второй заповеди, предписывающей отказ от производства изображений. «В иудейской книге законов, — писал Кант, — нет, пожалуй, более возвышенного места, как заповедь: не создавай себе кумира и никакого подобия того, что есть на небе, на земле и под землей и т. д. Единственно эта заповедь может объяснить энтузиазм, с которым иудеи в период расцвета своей жизни относились к своей религии». Требуется пояснить, почему невозможность искусства у евреев вызывала горячее одобрение философа, враждебно настроенного к ним во всем остальном: в этом эстетическом вопросе иудаизм некоторым образом совпадал с принципами его этики. «Возвышенное» у Канта — это сильное чувство, возникающее из сознания превосходства души над физической природой: природе в физическом ощущении, как бы грандиозна она ни была, не свойственны ни сила интеллекта, который легко может мыслить бесконечность, ни абсолютность морального закона.
Если вызвать у человека осознание «способностей души, превышающих всякий масштаб внешних чувств», он испытывает эмоциональное состояние, «расширяющее душу». Именно такое состояние «гордости» и «энтузиазма», по мнению Канта, вызывается отказом от пластических искусств, содержащих физически воспринимаемые образы. Хотя ощущение возвышенного и «отвлеченно» (что в английских изданиях передается словом abstract), то есть интеллектуальное в нем берет верх над чувственным, нет основания опасаться, пишет Кант, что чувство от этого теряет, превращается в холодное и безжизненное, — как раз наоборот. «Ведь там, где внешние чувства ничего не видят перед собой… скорее понадобилось бы сдерживать порыв безграничного воображения, чтобы не дать ему возвыситься до энтузиазма, чем, опасаясь бессилия этих идей, искать для них опоры в картинах и детских вещах». «Картины», то есть чувственная художественная красота, казались Канту детской игрушкой по сравнению с безграничностью воображения, стимулируемого трансцендентными представлениями, которые человек получает в себе, и с вытекающим отсюда энтузиазмом, который (что важно для Канта) близок энтузиазму этическому.
Во времена Канта отказ от «картин», изображающих чувственную реальность, означал невозможность искусства в принципе. Но в ХХ веке эта теория вела уже к созданию другого типа искусства, не связанного с «детским» увлечением красотой картин, то есть не фигуративного, а основанного на самом ощущении «возвышенного» и порождаемом им «безграничном воображении», которое не поддается рациональному сдерживанию, и эта задача была решена художниками нью-йоркской школы.
Философ Жан-Франсуа Лиотар в одной из своих статей предположил, что кантовский анализ второй заповеди в контексте «возвышенного» спровоцировал художественный авангард вообще как явление. Но все же характерно, что и он нашел конкретное подтверждение этому именно в живописи Барнетта Ньюмана и в его опоре на «возвышенное» при выработке своего абстрактного метода. В самом деле, в 1948 году журнал «Тигриный глаз», служивший площадкой для выработки новых художественных идей, опубликовал целый ряд принципиальных статей художников-абстракционистов о «возвышенном» как теоретической и эстетической основе абстрактного искусства, и среди них уже упомянутый манифест Ньюмана «Возвышенное сегодня».
Разумеется, критика не могла пройти мимо того факта, что сформулированные таким образом задачи американского авангарда практически совпадали с программой создания еврейского искусства, вернее сказать, с перспективой возможности основать его не на чем-нибудь, а на «возвышенном» умонастроении, характерном для иудейской второй заповеди. То, что Ньюман начиная с1948 года излагал в своих работах на основе понятий каббалы и в абстрактной форме библейский миф о сотворении мира, считавшийся классическим примером возвышенного, создавало впечатление спонтанного, почти на глазах совершающегося возникновения современного еврейского искусства. И хотя сами художники нью-йоркской школы, многие из которых были евреями, не придавали этому направлению характер национальной программы, «современное еврейское искусство» появилось почти непроизвольно, и этот феномен не могли не заметить действующие критики и кураторы. Так, еврейский музей в Нью-Йорке (изначально основанный для того, чтобы поместить в нем собрание иудаики еврейского теологического семинария) на протяжении 1950–1960-х годов провел целый ряд значительных выставок нью-йоркского авангарда. Причем дело опять-таки было не в еврейском происхождении большинства художников, а в том, что абстрактное искусство приобретало особенное значение в контексте иудаизма. Оно воплощало (как это виделось в определенной философской перспективе) саму идею еврейского искусства, причем художнику для этого не обязательно было быть этническим евреем. Так, в выставке «Нью-йоркская школа: вторая генерация» (1957), открытой к десятилетию музея, наряду с художниками-евреями (Гэнди Броди, Элейн де Кунинг, Элен Франкенталер) участвовал Джаспер Джонс, который позже, в 1964-м, устроил в еврейском музее свою первую персональную выставку; а через два года там была проведена ретроспектива Эда Рейнхардта. Лео Стайнберг (критик и историк искусства, который вскоре первым уловит и опишет новые тенденции в искусстве Раушенберга и Джонса) в предисловии к каталогу выставки «второй генерации» нью-йоркской школы высказал радикальную мысль о совпадении характера иудаизма и современного художественного авангарда:
Еврейский народ и современное искусство схожи в том, что и тот и другое оказались способны отречься от всего, что остальным казалось совершенно необходимым для выживания. Евреи сохранились как абстрактная нация, доказав — как и современное искусство, в свою очередь, — что можно спокойно жить без очень и очень многого. Я бы добавил к этому, что иудейская религиозная практика замечательна тем, насколько в ней доминирует самоосуществление и отсутствует намерение репрезентировать некоторое внешнее содержание, носителем которого в других конфессиях является ритуал и которое может быть от него отделено. И, наконец, иудаизм и современное искусство схожи потому, что они выработали и обосновали убеждение в своей исключительности... Трудно быть современным в сегодняшнем искусстве — но и на эту тему уже давно существует старая еврейская пословица. Этим, по всей вероятности, и объясняется то, что многие молодые евреи с легкостью становятся современными художниками.
Еще более полно современное искусство и иудаизм совпали у Харольда Розенберга, критика, выдвинувшего экзистенциалистскую концепцию абстрактного экспрессионизма как «живописи действия» (action painting). Экзистенциализм Розенберга изначально был связан с еврейскими источниками, хотя он совершенно не выпячивал этого и придавал своему дискурсу об искусстве универсалистский характер. Тем не менее нельзя не отметить его экзистенциалистской трактовки хасидизма в рецензии на «Хасидские предания» Бубера (1947, на английском языке). В этой рецензии Розенберг выделил те из хасидских притч, которые доказывали, что «дорога к абсолюту лежит в глубинах «Я». Он увидел в хасидизме философский источник того представления, что человек не знает своего истинного «Я» и что его предназначение состоит в том, чтобы стать этим «Я», обнаружив его посредством деятельности. Философская актуальность этого мистического мировосприятия ощущалась не только Розенбергом — в этой же статье он сослался на «Основные течения в еврейской мистике» Гершома Шолема, где хасидизм был назван учением, овеянным «дыханием современности». Закономерно, что затем Розенберг внес идею «Я» — как процесса самосоздания, как персонального акта творения — в свои работы, освещающие проблему индивидуума в современном обществе (1950), и что его появившаяся вскоре концепция «живописи действия» была построена на том же представлении, но уже перенесенном в художественную плоскость. Как он писал, настоящий «художник действия» пересоздает себя в процессе творческого акта, понимаемого им как диалог с живописной поверхностью. Поставив буберовское понятие «диалога», то есть отношение к поверхности как к полноценной действительности и равноправному партнеру, в центр своей теории, Розенберг в определенном смысле повлиял на появление совершенно новой концепции — искусства как диалогического взаимодействия художника с самой действительностью, которое не предполагает «художественный объект». Поэтому неудивительно, что он не только заинтересовался течениями, которые последовали за пропагандируемым им абстрактным искусством, но и «опознал» в них настоящую реализацию идеи еврейского искусства. В статье «Существует ли еврейское искусство?» (1966), изначально представлявшей собой доклад, прочитанный в еврейском музее в Нью-Йорке, Розенберг рассмотрел и отверг все существовавшие до того подходы к этой проблеме, прямо провозгласив, что настоящим манифестом еврейского искусства является «вторая заповедь», понятая в самом строгом ее истолковании. Поэтому практику еврейского музея выставлять работы Готлиба, Ньюмана, Ротко и других абстрактных экспрессионистов он назвал здесь полумерой и выдвинул взамен еще более радикальную идею «еврейского искусства будущего», предположив, что настоящий смысл еврейского отношения к искусству заключается в отказе от материального произведения искусства вообще.
У меня есть своя собственная фантастическая идея о том, почему Библия отрицает скульптуру, живопись и тому подобное: когда ты находишься в мире чудес, произведения человеческих рук только отвлекают тебя от главного. В пейзаже Ветхого Завета все, что угодно (одежда, рогатка, ослиная челюсть) или кто угодно (пастушок или наложница), может начать искриться смыслом и войти в коллективную память. (Что-то подобное происходит в поэзии Уитмена: вместо того чтобы сочинять образы, он просто перечисляет объекты, которые он видит в американском пейзаже, подразумевая, что искусством является все, что является в пространстве чуда.) Таким образом, Библия повествует нам об «искусстве» особого рода, которое мы можем оценить только сейчас: к нему относятся плащ Иосифа, Валаамова ослица, неопалимая купина, жезл Аарона. В наше время, когда развивается новое художественное мышление, направленное против искусства, мы можем утверждать, что у евреев искусство всегда существовало именно постольку, поскольку произведений как таковых и не было. …Таким образом, еврейское искусство существует в негативном смысле, как искусство создавать мысленные объекты, отрицая вещественные.