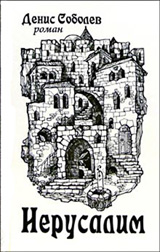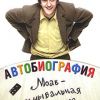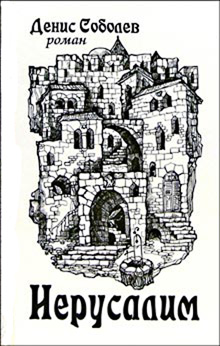
Одновременно, правда, возникли и претензии – мол, нечего Соболеву делать в букеровской шестерке, поскольку роман его - не роман вовсе, а книга новелл. Претензии, заметим, несправедливые: во-первых, подобный прецедент в Букере уже имел место несколько лет назад, когда в шорт-лист попал сборник рассказов калининградца Юрия Буйды «Прусская невеста», а, во-вторых - и в-главных, «Иерусалим», конечно же, роман, пусть и с прихотливо-фрагментарной композицией.
Книга действительно состоит из семи самостоятельных новелл/глав, шесть из которых объединены лишь общим настроением и духом места. Но в последней части – своего рода коде – все повествователи предыдущих глав оказываются на сборах резервистов в одном взводе под началом седьмого «я» – автора, и разрозненные мотивы складываются во вполне отчетливый единый узор. Роман начинается с новеллы о Картофиле, и каждый из героев, по сути, тот же Вечный Жид – неприкаянный, тоскующий, стремящийся в Иерусалим и неизменно убеждающийся в недостижимости Города.
Основная тема книги – сосуществование двух миров, быта и духа. Заходит человек в комнату и беседует с Лилит, которая сидит, поджав ноги, на его диване. Потом Лилит улетает, а ее собеседник идет на дискотеку и снимает там девицу. Но эта дискотечная девица герою невыносима, потому что он обречен воспринимать ей подобных на фоне Лилит. Казалось бы, эка невидаль, простейший контраст, прием банальный донельзя, но у Соболева он, как ни странно, работает. Наверное, все дело в том, что в этой очень литературной литературе есть смыслы и чувства, не вычитанные из книг, тогда как самые что ни на есть реалистические романы о «жизни как она есть» на поверку то и дело оказываются целиком заемны и насквозь пропитаны враньем. Такой вот парадокс.
Другое дело, что противопоставление низкого и высокого нередко проводится автором с чрезмерным нажимом и изрядной прямолинейностью, особенно в самой слабой части книги – главе «Азаэль». Да и вообще в недостатках «Иерусалиму» не откажешь: автор склонен к чересчур очевидным карикатурам и не слишком тонкому юмору (вечеринка, где напиваются и ширяются персонажи с фамилиями Кумаров, Бухалов и Отходняк), в романе заметны следы кружковости и тусовочности. Но главная беда автора, что он постоянно думает о том, как выглядит со стороны, и очень боится показаться некрасивым, неинтересным – проще говоря, обыкновенным.
Все это тем обиднее, что «Иерусалим» вообще-то роман хороший. В нем есть настоящее движение вглубь – то есть то, для чего, собственно, литература и существует. В нем есть подлинность, тонкость, есть поразительное лирическое начало, пронизывающее роман от начала до конца. Автору дан свой взгляд, свой мир, наконец, свой город, Иерусалим – сильный союзник, одухотворяющий даже банальности.
И последнее. В ситуации, когда литбомонд с ног сбился в поисках позитива, когда заразившиеся от старших товарищей члены жюри студенческого Букера манифестируют свое намерение награждать романы за «оптимизм» и «веру в лучшее, вопреки фактам», у книги Соболева, несущей заряд подлинной тоски и здоровой мизантропии, шансов, казалось бы, не было изначально. Однако оказался-таки на слуху, дошел до критиков и читателей – и это не может не внушать столь презираемый автором оптимизм.