Историю развития советской исторической науки в общих чертах описал в своей последней прижизненной книге замечательный советский историк Владимир Кобрин. В двадцатых годах «историческим фронтом» единолично командовал старый большевик Михаил Николаевич Покровский — кондовый марксист, рассматривавший историю исключительно через призму классовой борьбы. Царскую Россию Покровский полагал тюрьмой народов и жандармом Европы, а дореволюционных государственных деятелей и полководцев считал угнетателями и реакционерами, не заслуживающими доброго слова.
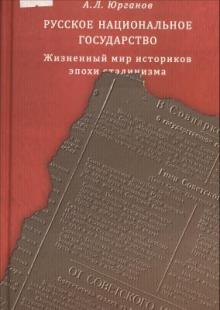
К сожалению, Кобрин не писал о том, как именно происходила смена исторических парадигм в советской науке и каков был механизм взаимодействия историков и власти. Этот пробел и попытался заполнить в своей монографии ученик Кобрина, известный русист-медиевист Андрей Юрганов.
Несмотря на декларируемый атеизм, советская историческая наука, пишет Юрганов, носила отчетливо религиозный характер. Главным источником истины для ученых служили цитаты из нового «священного писания» — классиков единственно верного учения, в число которых в начале тридцатых годов вошел Сталин. Поэтому, к примеру, частичная реабилитация царской России стала возможной лишь после публикации неизвестного ранее черновика Энгельса, где, среди прочего, утверждалось: «Королевская власть была прогрессивным элементом».
Однако, к счастью или к несчастью для ученых, согласия между классиками было не больше, чем между мудрецами и комментаторами Талмуда. Соответственно, работа сталинских историков неизбежно превращалась в пилпуль — метод толкования Талмуда, заключающийся в гармонизации всех существующих традиционных мнений.
Истинный смысл выражался для историков в правильном соединении цитат классиков марксизма-ленинизма, окончательно потерявших свою контекстуальную природу. Задача историков — согласовать все истинные суждения классиков марксизма, включая Сталина. Нужно было найти такое единство, которое не противоречило бы никому из классиков в отдельности.
Однако высказывания классиков, особенно вырванные из контекста, допускали самые разные толкования. Именно это, полагает Юрганов, сделало возможным ожесточенные споры, которые велись в советской науке в рамках общей для всех марксистской парадигмы. Примером такой полемики стало совещание историков при ЦК ВКП(б) летом 1944-го, когда схлестнулись представители двух направлений: ортодоксально-марксистского во главе с академиком Панкратовой и национально-государственного, лидером которого по иронии судьбы стал академик Тарле, неизменно настаивавший, чтобы его фамилию произносили с ударением на первый слог, поскольку «я не француз, а еврей». Обсуждение в первую очередь касалось территориального расширения России, а также национально-освободительной борьбы окраинных народов — считать ли ее прогрессивной, как полагали «марксисты», или же реакционной, как считали «государственники».
Как показал Юрганов, советские историки обычно спорили не о фактах, но об их оценке с точки зрения таких вненаучных телеологических категорий, как «реакционность» и «прогрессивность». При этом ученые не столько переубеждали своих коллег, сколько апеллировали к верховному арбитру в лице партийного руководства или лично Сталина. Поэтому после каждой дискуссии все участники тщательно редактировали стенограмму, внося в нее правку, предназначенную не для коллег, а для вышестоящих инстанций.
В тот момент, когда верховный арбитр оглашал свой вердикт, всякие споры, естественно, прекращались: «ортодоксы» торжествовали, еретики каялись в ошибках и обещали исправиться. Однако, пока истина не была объявлена, историки могли высказываться с невероятной для сталинской России свободой. К примеру, в ходе упомянутого совещания некто Хорен Аджемян договорился до того, что объявил реакционером Емельяна Пугачева, поскольку его восстание подрывало обороноспособность страны и грозило уничтожением ее культурной элиты (читай — дворян-крепостников). Когда же коллеги во главе с профессором Ефимовым отвергли эту явную ересь, Хорен Григорьевич впал в ярость и с истинно южным темпераментом обрушился на оппонентов в таких выражениях, что позавидовал бы и Зощенко:
Т. Ефимов одержим фурией злобы…Мои критические стрелы угодили в самое чувствительное место этого ихтиозавра, и он в слепой ярости стал походить на гоголевскую девку. Где право и где лево, что ниже и что выше на этом совещании: его широковещательные, но пустые ярлычки или моя критика отживших приемов фальсификации истории пугачевщины?
В своих научных исследованиях советские историки должны следовать в фарватере партийного руководства. Однако, пишет Юрганов, влияние в данном случае было двусторонним — работы советских историков нередко влияли на мировоззрение Сталина, Жданова и других партийных лидеров, внимательно следивших за советской наукой. Классическим примером может служить реабилитация Ивана Грозного. Как известно, на встрече с Эйзенштейном лучший друг физкультурников обвинил царя в умеренности и недостаточном числе казней. Натан Эйдельман назвал эту точку зрения «уникальной». Но, как показал Юрганов, практически все свои суждения о Грозном и его политике Сталин почерпнул из советских изданий конца тридцатых — начала сороковых, и среди них, например, из работ академика Виппера.
Начавшаяся в конце сороковых борьба против низкопоклонства и космополитизма не могла не затронуть историческую науку. Жертвами травли стали многие советские историки — Минц, Розенталь, Разгон, Городецкий, Рубинштейн и другие. Некоторые обвинения, пишет Юрганов, звучали совершенно фантастически — к примеру, Ефима Наумовича Городецкого уличили в том, что он клеветал на русский народ, обвиняя его в поголовном антисемитизме.
В письме в партийный комитет ВПШ при ЦК ВКП (б) Городецкий писал: «Клеветнически утверждается, будто в своих лекциях я заявлял, что в России якобы не было сил, которые осуждали бы антисемитскую политику царизма. Между тем у меня ясно сказано: “Видные общественные деятели России и Западной Европы возглавили движение против кровавого навета”. Я также специально подчеркиваю роль большевистской партии в борьбе с шовинизмом и антисемитизмом.
Но не стоит считать кампанию против безродных космополитов свидетельством окончательного торжества национально-государственной школы. Желая и дальше играть роль верховного арбитра, Сталин никогда не присуждал окончательную победу ни одной из сторон, поэтому в послевоенные годы «проработке» подверглись не только безродные космополиты, но и те историки-«патриоты», которые стали слишком пренебрегать классовым подходом. В результате, пишет Юрганов,
почти никто из ученых не избежал разгромных статей, разоблачений и т.д. Некоторые даже пострадали физически, были арестованы как враги народа. Дух неопределенности не оставлял науку.
В отличие от многих работ по истории сталинизма, в книге Юрганова нет положительных и отрицательных героев: как свидетельствуют документы, все советские историки вынуждены были работать в рамках официальной парадигмы, то есть, говоря словами автора, оставаться в «египетском плену идеологии, в зависимости от цитат классиков». Постепенное освобождение от этой зависимости начинается лишь после смерти Сталина. Но это — «уже другие страницы истории исторической науки».













