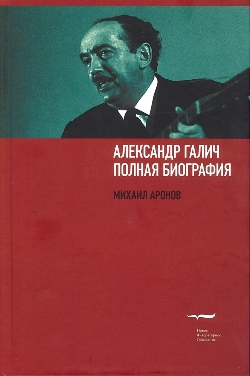Книгу об Александре Галиче хотелось прочитать давно — и особенно сильным это желание стало после быковского «Окуджавы». Вот бы про Галича тоже кто-нибудь так написал! Поэтому первую биографию Галича, изданную «НЛО», я открывал с нетерпением.
Нельзя сказать, что мои надежды были полностью обмануты. В книге подробно рассказана жизнь Галича: преуспевающий советский драматург, потом — автор крамольных песенок, потом — диссидент, в конце концов — эмигрант, сотрудник радио «Свобода» и человек, о котором до сих пор говорят, что его убило не то КГБ, не то ЦРУ. Огромное количество документов, подробная хроника жизни, выдержки из мемуарных свидетельств, фрагменты интервью… Очень познавательная книга и, временами, забавная. Чего стоит хотя бы история о том, как Галич и Бродский залезли ночью на дачу к Чуковскому и вытащили у него бутылку водки! Или вот, например, прекрасный фрагмент из воспоминаний Александра Колчинского:
«Мать тяжело молчала (…), а потом вдруг спросила: “А что это у тебя на шее?” Галич ответил зазвеневшим голосом, в котором прозвучал некоторый вызов: “Я крестился” (…) <Он> залез рукой под рубашку и вытащил большой нательный крест. При этом он сказал что-то вроде: “Я пришел к единственному Господу нашему Иисусу, и это символ моей новой веры” — и поцеловал крест. “Ты крестился?” — вскричала мать. Хотя сама она была бесконечно далека от любой религии, в том числе иудейской, мать очень не любила, когда евреи крестились, полагая это предательством. Именно это она и стала высказывать Галичу в самых резких выражениях»
При всем драматизме это, по-моему, очень комичная сцена — неофитский пафос Галича и суровые обличения женщины, «бесконечно далекой от любой религии».
Одним словом, «Полная биография» адресована и исследователям, и фанатам Галича.
Но, несмотря на интереснейшие цитаты и широту охвата материала, книга разочаровывает. Сначала кажется, что дело в суконном языке («А как в конце 60-х обстояли дела у Галича на творческом фронте?», «Арбузова (…) угнетало чувство вины за свой неблаговидный поступок», «не остались равнодушными и рядовые поклонники творчества Галича. Узнав о бедственном положении любимого поэта…») и общем уровне филологического анализа:
«Теперь обратимся к сопоставлению взглядов Высоцкого и Галича на советский режим и посмотрим, как они в своем творчестве реализуют собственный конфликт с властью».
Это тем обидней, что Галич как поэт еще ждет своего исследователя. Его влияние на последующую русскую поэзию и литературу недооценено — Галича списали по разряду «антисоветских песен», хотя самое интересное в нем — постмодернистское продолжение балладных традиций, аукающееся, например, у Кибирова и ранней Степановой. Если учесть, что Высоцкий считается «дедушкой» русского панк-рока (включая «Гражданскую оборону» и любимых мной «Соломенных енотов»), а Окуджава был канонизирован еще при жизни следующим поколением авторской песни, то Галич оказывается единственным из «большой тройки», чье влияние испытали на себе прежде всего «непоющие» поэты.
Обидно, конечно, что издательство «НЛО» не смогло привести текст в соответствие с современными критериями качества, но, в конце концов, литературоведческие места можно и пропустить при чтении, а к авторской стилистике притерпеться. Однако в какой-то момент понимаешь, что проблема с книгой Аронова совсем в другом.
Похоже, автор слишком безоглядно любит своего героя:
«Каждая строчка этого письма дышит чувством собственного достоинства и пониманием значимости своего песенного творчества … Сколько мужества требовалось для того, чтобы написать такое сильное письмо».
Впрочем, неуместно-восторженная интонация — это еще полбеды. Когда Аронов кидается защищать Галича от его современников, становится по-настоящему неловко. Вот Солженицын нападает на знаменитые строчки «А бойтесь единственно только того, кто скажет “Я знаю, как надо”» — мол, Христос был Тот, Кто знал. Аронов тут же начинает анализировать стихотворение и объяснять, что Солженицын ошибся, речь идет о коммунистах и о «рае на земле», и пытается побить Солженицына цитатами из Буковского и Петра Григоренко. Или вот Раиса Орлова, многолетний друг Галича, пишет, что «надев крест, Галич (…) не стал ни добрее, ни милосерднее, не стал больше думать о других людях», — и тут же Аронов добавляет «последний упрек Раисы Орловой следует в первую очередь отнести к ней самой», ведь она сама писала, что многого не успела сделать для Галича и сказать ему.
Все это как-то несерьезно: Галич, такой, каким он был, совершенно не нуждается в защите. Галич был органичен во всем, что делал. К чести Аронова, он не скрывает свидетельств галичского снобизма, изнеженности и барства. В книге не нашлось места воспоминаниям Раисы Орловой о том, как возмутили аскетичную Лидию Чуковскую подвозившие ее Галич с женой, которые всю дорогу болтали о финской мебели и о сервизах1, но процитированная фраза И. Грековой «Саша Галич пойдет на костер, но непременно в заграничных ботинках с завязочками» вполне задает портрет «оппозиционного плейбоя и сибарита». Мне кажется, именно такие люди свалили советскую власть в конце перестройки.
Не могу удержаться, чтобы не сказать, что нынче на Болотную выходят в том числе и вот такие наследники Галича — успешные любители коньячка, хорошей мебели или, на худой конец, заграничных «конверсов» с завязочками. То, что снова ставшую популярной фразу про «смеешь выйти на площадь» сказал человек, который в августе 1968 года ни на какую площадь не выходил, придает особый статус фейсбучным постам, лайкам и шарам: не так важно, куда ты ходил, — важно, как ты сказал.
Да и вообще, внимание к «стилю», роднящее нынешних хипстеров с Галичем, восходит, очевидно, к денди XIX века. Так что обвинять Галича за любовь к красивой мебели так же странно, как обвинять Уайльда за то, что он уделял много внимания одежде.
Если честно, оппозиционный денди и гедонист — образ более привлекательный, чем оппозиционный бессребреник и аскет (недаром позиция последнего, как правило, связана с тем самым «я знаю, как надо»).
Любовь к комфорту не отменяет больной совести: или от того, что колеса все еще едут по рельсам, по сердцу, по коже, — и пол не циклевать, и штор не вешать?
От нециклеванного пола колеса не остановятся.
Галич никогда не говорил об этом впрямую — но своего сибаритства не стеснялся и не скрывал. Достаточно послушать устные рассказы, которыми он сопровождал свои песни. Помню, какое впечатление когда-то произвела на меня запись, где Галич трагически-манерным голосом рассказывал, что написал эту песню, когда ему было очень плохо… так плохо, что бутылка французского коньяка стояла у него неоткрытой… ему было очень, очень плохо… и он решил обратиться к традиции Василия Андреевича Жуковского… короче, в тот момент, когда слушать этот поток снобского самолюбования стало уже невозможно, выяснилось, что Галич рассказывает историю написания «Королевы материка», одной из моих любимых песен. Я был потрясен — а сегодня мне кажется, что в этом сочетании как в капле воды отразилась вся история Галича.
Неважно, зачем Галич начал писать песни — чтобы не отставать от моды, чтобы почувствовать себя молодым, чтобы продолжить традицию Вертинского или Жуковского, чтобы девушки в лицо смотрели, — важно то, что потом оказалось невозможно остановиться. Я думаю, Аронов неправильно трактует признание Галича, будто бы он «просто не мог больше молчать», — он не мог молчать не тогда, когда написал свои первые песни (ничего особо крамольного в них не было), а тогда, когда за ними следом пришли «Облака», «Баллада о вечном огне» или «Королева материка». Избитые слова Цветаевой о том, куда поэта заводит речь, применимы к Галичу больше, чем ко многим, — в конце концов, ему пришлось расплачиваться потерей работы, лишением привычного комфорта, недобровольной эмиграцией.
Должен сознаться: версии Аронова о борце за правду я предпочитаю версию Нагибина.
(Аронов, кстати, обрывает нагибинскую цитату на полуслове, так что подробности про наркотики из книги узнать не удалось.)
Если сравнить историю о раскаявшемся литературном функционере с историей пижона и эстрадника, заигравшегося в свои стилизации, то вторая кажется мне и точней, и трагичней.
Я думаю, если бы Галич мог выбирать, какую историю о нем должны рассказать, — он бы выбрал именно ее.
--------------
1. Чуковская в своих дневниках пишет, что Орлова все исказила и ее возмутили не разговор о мебели, а семейные ссоры Галичей и «размалеванная пошлейшая Нюшка». Между тем история стала вполне легендарной и дала основания Захару Маю остроумно заметить, что только в русской культуре возможно презирать певца, потому что он любит хорошую мебель: вероятно, предполагается, что надо любить херовую.