Политолог, историк и дипломат Дан Витторио Сегре в 1983 году написал книгу о своем детстве и юности, используя дневники, которые вел с 1940 года. Повествование получилось многожанровым: семейная сага, история Италии 1920-40-х годов (понять ее помогает справка переводчика Даниэля Фрадкина об итальянском фашизме), «роман воспитания» и отвлеченные размышления. Также сложна субъектная организация этой прозы, где автор рассказывает о своем детстве и юности, о семье, но вместе с тем «выделяет из себя» героя — «везучего еврея»-мемуариста.
2.
Тема везучести заявлена уже с первой страницы:
«Мне наверное, еще не исполнилось пяти лет от роду, когда мой отец выстрелил мне в голову. Он чистил свой револьвер “Смит-энд-Вессон 7-65”, и из дула вдруг вылетела пуля — никто не знает, каким образом. <…>. Она чиркнула мне по голове, сожгла, как мне рассказывали снова и снова, локон моих — в то время белокурых — волос и вонзилась в секретер стиля ампир».
Чудесное избавление от смерти становится семейной легендой. В сознании мальчика она соединилась с везением другого рода — принадлежностью к аристократической еврейской семье Пьемонта. За отца-мэра голосовали крестьяне, и не только потому, что он был самым богатым землевладельцем, но и потому, что был евреем. Отец чувствовал себя настоящим итальянцем, готовым умереть за родину.
«В грандиозной мифической антрепризе, именующейся Рисорджименто, многие евреи, и мой отец в их числе, чувствовали себя отцами-основателями… В каком-то смысле они и были единственными подлинными итальянцами, потому что родились как граждане в начале борьбы за национальное единство Италии. Они могли чувствовать себя в большей степени итальянцами, чем сами итальянцы, потому что не были ранее ни венецианцами, ни генуэзцами, ни неаполитанцами».
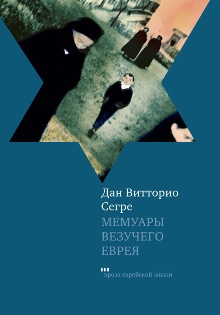
Евреи Италии пребывали в «гибридной» ситуации; они были патриотами Италии, но не скрывали своего происхождения. Они исполняли некоторые еврейские обряды, их дети могли не посещать уроки катехизиса, отец героя читал в окопах молитвенник и перед атакой в Йом-Кипур отказывался от еды и питья. Но иудаизм не удерживал итальянских евреев. Мать героя от одиночества и скуки деревенской жизни увлеклась христианством; 20 лет муж удерживал ее от «неуместного поступка», но она все же крестилась и в Иерусалиме отправилась в монастырь, где большинство монахов были крещеными евреями. Об уходе от своего народа Сегре рассказывает больше с иронией, чем с осуждением — то ли не отрываясь от своего детски-отроческого мироощущения, то ли не считая этот уход катастрофой.
В начале 1930-х годов везение все еще сопутствовало итальянским евреям; войну в Абиссинии они оправдывали, а война в Испании казалась чужой и не лишала безмятежности.
Прозрение наступило только после принятия Муссолини антисемитских законов, в 1938 году. У везучего «авангардиста» (член юношеской фашистской организации) пробуждается в те годы инстинкт самозащиты: «Я подумал, что лучше всего пойти туда, где никто не сможет упрекнуть меня за преступление родиться евреем». «Уникальность» еврейско-итальянской ситуации проявилась еще раз, когда для въезда в Палестину, закрытую британскими властями для евреев, отец сумел достать сыну «визу капиталиста» через знакомого фашистского функционера.
3.
В Палестине «из позолоченной клетки» детства герой попадает в мир единообразия и «мощной жизненной силы». Здесь не только строится новое общество, но и обсуждаются все планы движения к нему. Если раньше юноша плавно скользил по течению жизни, теперь ему необходимо вписаться в реальность: в «спортивные команды, молодежные движения, религиозные кружки». Вначале — кибуц, росток социализма. После итальянской архитектуры — одинаковые деревянные бараки с наклонными крышами, поделенные на четыре комнаты. Поразительна примитивность и вместе с тем целесообразность бытового устройства, особенно туалетов и душевых кабин, внедряющих равенство. Никому не должно везти больше других, и тогда повезет всем.
«Голые, как черви, но объединенные, в ожидании вечера и ночи, свободных от библейского проклятия добывания пищи в поте лица своего, мы отдавали должное душу как сильному средству укрепления связей нашего пролетарского братства. Освеженные водой – а каждый знал, как она бесценна, – зачастую разогретые идеологической дискуссией, мы располагались на скользких скамейках, чтобы поговорить о политике во время мытья ног».
Юноша упорно ищет себя в нивелирующем сообществе: выходит из кибуца, оставляет также сельскохозяйственную школу, идет в армию, где надеется отличиться. Но как это сделать и остаться верным себе, если, поклявшись на Библии британской короне, приходится выполнять приказы еврейского подполья, «Лехи» и «Нили»?
Впечатлительный и эмоциональный, он переживает приступы страха во время бомбежки Тель-Авива:
«Прохожие смотрели мельком, не останавливаясь, я же не мог оторваться от этого зрелища, потому что никогда еще не видел насильственную смерть, наступившую так близко, так внезапно. В воздухе по-прежнему пахло взрывом, но птицы на деревьях зачирикали вновь. Учительница положила мне руку на плечо…».
По сравнению с судьбой единоверцев на фронтах, он все еще «везучий». Но его привилегия тылового солдата иногда выглядит комично:
Спустя несколько дней после моего вступления в армию еврейский сержант сообщил нам, что мы объявляем забастовку. Наверняка это была самая странная забастовка в истории британских вооруженных сил. Кто-то заметил, что в столовой нам не дают, как британцам, на завтрак бекон. Из-за нашей религии нас приравняли к арабам, и этого хватило, чтобы мы почувствовали себя дискриминированными.
Англичане не поняли, чего хотят евреи, но со следующего утра решили кормить их беконом.
Только улыбнется удача: он принят диктором на радио и повышен в статусе, — жизнь подбрасывает жесткие испытания. Невозможно преодолеть страх перед высотой, когда нужно прыгнуть с парашютом на вражескую территорию. Чувство стыда переживается остро, хотя и тогда он все еще верит в гармонию мира.
«Горечь везения» — последняя глава. В конце войны приходят увлечения и любовь, а затем — встреча с Франческой, еще одной посланницей Холокоста. До того он подозревал, что не способен к сопереживанию. Но с ней почувствовал, что его отчуждение кончилась; он получил возможность исповедоваться, доверить взрослой женщине свои страхи и сны. Она старается вдохнуть в него оптимизм: «жизнь продолжается даже среди самых ужасных вещей».
4.
От легендарной везучести детства герой приходит к счастливому умению слушать общую жизнь, не растворяясь в ней. Вернувшись в Италию и встретившись с несчастным и подавленным отцом, он гордится своим видом: «молодой человек в военном берете, надетом набекрень, с пшеничными усами, с шелковым шейным платком особой части и револьвером, торчащим из холщовой кобуры на поясе». Револьвер теперь — не орудие рока, а знак принадлежности к защищающей себя общности. В плане размышлений и итогов — судьба и индивидуальная, и национальная.
«И все же Стена Плача была тем единственным местом, где я чувствовал, что наше светское национальное движение, даже в его социалистической форме, имеет историческое значение, где можно мечтать о чуде, не сознавая, как мы были к нему близки. Ведь через каких-нибудь неполных шесть лет политическая ситуация в Палестине изменится настолько, что британскому нашествию настанет конец».
Проза Сегре пластична, переполнена событиями и деталями. Но интерес автора не на действии, а на его переживании: бедуины ведут себя благородно, как принцы; ортодоксальные евреи вызывают смесь восхищения и отторжения; при виде «толстых, краснолицых и неопрятных женщин» в окнах яффского борделя, «я всякий раз вздрагивал от ужаса и любопытства». Дистанция между автором и героем существует — в сюжете и повествовании, в том, как поставлена точка в «итальянской истории», не заслоненная взглядом умудренной зрелости. (О том, что ничего из прошлого Даном Сегре не было потеряно, свидетельствует вышедшая за три года до «Мемуаров» книга «Кризис идентификации: Израиль и Сионизм» (A crisis of identity: Israel and Zionism, 1980). В ней те же вопросы самоидентификации — в масштабе нации и государства.) Но в то же время дистанции как бы и нет: движение сюжета — это путь мальчика от наивной веры в собственную везучесть к осознанию себя в потоке истории. Сегре не просто вспоминает, не только документирует исторические события, а, как любой экзистенциалист, оживляет картины прошлого, открывая их современному взгляду.













